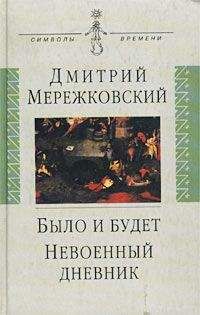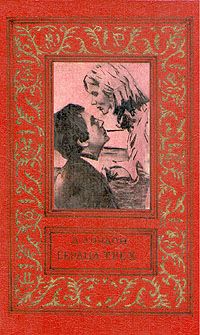Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
И вот уж мы тряслись-тряслись, уж мы мучились-мучились в этой повозке. Потом приехали. На пункт приехали. Тут сняли и положили на полу. Надо думать, что этот самый пункт был еще недалеко от позиции, потому артиллерию было слышно четко. Здесь мы находились недолго, надо быть, полторы суток. И завязывали, и перевязывали, и ковырялись тут у меня в голове. Все нащупывали что-то и делали совещание: здесь меня надрезать али дальше. Они тут говорят, а я ведь ни единого словечка не пропущу, все у меня в памяти, словно в книге, остается – потому хочется узнать: буду жить, али нет. Только запомнить трудно: все слова незнакомые. Ну, известно, подзовешь фельдшера и станешь его спрашивать об этих самых словах. А он смеется да поправляет. «И откуда, говорит, ты этакие вещи знаешь?..» А я разве скажу ему – откуда: услыхал, да и только. Короче говоря, я тут узнал, что голову мне резать не будут и осколки вынимать оттуда будут после. Не то чтобы легче стало, а не так страшно. Потом нас забрали; опять, значит, на носилки, опять повезли. Только уж тут были экипажи настоящие – говорят, что такие в одной Финляндии делаются. Тут было ехать поспокойнее. Да и солнышко, помню, глянуло. Отворотили мы застежку – поглядываем. И что-то не помню я таких мест: ни дороги такой не видал прежде, ни луга такого. А уж в этих местах все знал. Оказалось, что леса тут порубили, а по топи проложили бревенчатую дорогу. И не знаю, правда али нет, говорили: каждая верста такой дороги из готового лесу обошлась анжинеру около 50 тысяч рублей. Э-э-эх. дорогая вышла эта дорога!.. По ней-то мы теперь вот и ехали. Тихо, не торопясь, ехали, а спереди кто-то все еще наддавал: «Тише, тише, говорю. Осторожней, канавы!» Дай ему бог доброе здоровье – этому вожатому. Опять к лазарету подъехали, опять нас тут высадили; занесли в палатку – высокая, белая, словно молоком ее облили… Ну, думаю, здесь-то вот мою головушку и замучают.
Только и тут не тронули. Заночевали, значит, мы эту ночь, повязали, закрутили мне голову и прямо на носилках перенесли в вагон – это санитарный поезд пришел. Так уж думаю – всему теперь конец: довезут, положат, и выздоравливай с богом! Ан нет. Долго еще возили меня по разным городам; и в лазаретах лежал, и на пунктах переносили в больницу, и голову порезать все не решались. Так вот и рассудите сами: давно ли я здесь – совсем недавно. Уж осень, а я ведь от самого мая из одного города в другой катался. Тут десять раз помереть было можно, только уж сестрицам дай бог женихов хороших: ласковые они. Когда уж очень-то тяжело случится – наклонится она к голове, да и молчит. А ведь белая, хорошая такая. Дескать, ангел наклонился, да и только. И сразу полегчает. И не скажет она ничего, только поглядит ласково, а полегчает. Дурное говорят – только что же это. Я уж не знаю.
Спервоначалу я сам дурное говорил больно про них охотно, да легко говорить: никто тебя не удержит, никто не запретит, а весело. Только – кто же не грешен из нас? Как только я это подумал – так и смеяться перестал. Ласковые они. А другой грешен, да и ласки-то нет – тут уж совсем беда. Вот он путь-то какой долгий. А еще сколько не помню. Да и господь с ним, может, к лучшему.
4 июня
Звезд, горящих жарко, на небе немного. За войну Георгии как саранча летели на солдатскую грудь. Про офицерские награды говорить не приходится: там случайно, что ли, не знаю, но только выходит всегда так, что толкущиеся в штабе напомаженные пустократы завешаны отличиями, а смешанного с землей пехотного офицера с трудом отличаешь от солдата – так все на нем буднично, однообразно и неприглядно. Здесь, в офицерах, градация резкая, жестокая, оскорбительная; здесь в большинстве офицерский отличительный знак является не звездой на груди, а клеймом, укором, обнажающим признаком.
Не всегда, конечно, таких – мало ли страдальцев-офицеров не награждено еще и вполовину? Да, такая здесь градация резкая, кастовая градация, основанная на связях и способности к вымогательству, а в солдатском мире градация право и неправо-награжденных основана на близорукости непосредственного начальства и опять-таки на известной юркости и назойливости характера. Много сереньких, невидных, молчаливых, которые и не думают о Георгиях, покорно уступая первенство смелым и ловким. Но смелые часто бывают вместе и пройдохами, а молчаливые, серенькие – эти честны до конца и в своем терпении подымаются до величия. Главная их заслуга в том, что они вполне искренне не замечают своего героизма – настоящего и цельного героизма, не опозоренного хвастовством и жаждой славы. Они говорят о пережитой полосе ужасов и страданья единственно с благодарностью богу за то, что остались в живых. Дело объясняется просто: чудом. «Сподобил бог сделать такое чудо, что спас меня – вот и все». Вот наш Зуев. У него в Тверской губернии худая, рябоватая жена с тремя ребятишками. Вслух он о них никогда не вспоминает, но на вопросы отвечает охотно. И вот он – такой маленький и неприметный – рассказывает об Августовских лесах, перебирает много славных исторических боев, в которых он был участником и о величии которых не помышляет. А ведь он, другой, третий – и тысячи таких сереньких – на своих плечах выдержали жестокий натиск. Где-то они целым полком зарвались в засаду: там немец, тут немец, и бежать некуда… «Спасайся кто куда знает!» – крикнул нам командир и побежал через поляну. А по поляне немец открыл такой огонь, что нас к перелеску изо всей роты добежало 18 человек… Вот вы и представьте себе картину: бежит он по поляне, а кругом все валятся, падают, стонут. Бежит и думает: убьют али нет? Вот он свистит. Ну, ну. Дыханье сперло. Сейчас лопнет – неужели здесь вот лопнет? А ноги путаются в снегу, горят, подгибаются. Вот он чернеет – скорее бы туда, за деревья – там не видно. И он бежит скорее, а рядом снова и снова лопаются снаряды, остаются на снежном поле новые товарищи, кровяные тропинки запоясали белую простыню луга. А в воздухе, словно жаворонки, заливаются, звенят быстроногие пули. Про них уж не думаешь, их не боишься. И где же тут бояться пули, когда кругом снаряды валятся как горох. Немец снарядов не пожалеет – ему бы только перебить побольше. Вот нас и били – без жалости били до самого лесу, а потом и по лесу догоняли, только уж там поспокойнее было бежать. Так вот представьте вы себе этого серенького, маленького человечка без трех передних зубов и без левого безымянного: бежит, и ждет его смерть, каждое мгновенье ждет, потому что она носится кругом и касается его холодным, острым лезвием. Тут геройства большого нет, но страдания – некрасовская реченька. Наш брат, пережив подобный ужас, носился бы целую жизнь со своим мученическим ореолом, разукрашивая его во все цвета, набиваясь ко всякому с рассказами и дополнениями, публикуя во всех газетах свое великое прошлое, – словом, смаковал бы самоуслаждение всевозможными способами, извлек бы возможную и невозможную выгоду из этого прошлого и считал бы себя венценосным героем. А он, Зуев, – посмотрите: об этом прошлом он рассказывает тем же языком, что и про деревню, про жену и ребятишек. У него нет ни восклицаний, ни знаков изумления или восторга, ни страшного выражения лица, ни трепета в голосе. Но за этим простым, безыскусственным рассказом почему-то особенно ярко представляется пережитый кошмар. Почему-то особенно живо стоит перед глазами широкая, белая поляна, а по ней кровь, кровь и кровь.