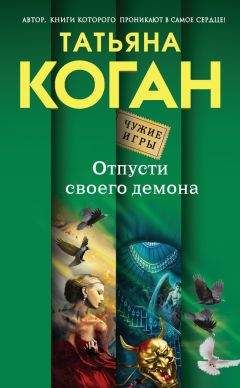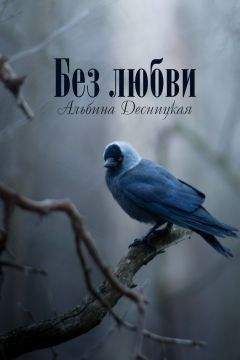Василий Зайцев - Подвиг 1972 № 06
Сражение оказалось кратким и победным. Парни, обгоняя девок, разбежались, костер утих, один только мальчишка–гармонист остался на месте, обхватив руками гармошку и вжавшись в березу.
Сделав последний, прощальный круг по полю боя, Васька остановил коня, оглянулся и, привстав в стременах, свистнул — долго, пронзительно и победно.
Небо уже совсем поголубело, темнота развеялась. Мы встречали утро победителями.
Руки у меня дрожали, словно это я, а не Васька рубил сейчас противника, я сидел, обхватив Ваську за живот, и слышал ладошкой, как гулко, молотом, стучит его сердце. Я страшно уважал, я боготворил Ваську за его победу, за то, что он отомстил нашим врагам, за то, что разметал целую толпу парней.
Поставив коня, Васька закрыл засов. Темнота все расступалась, и я увидел, как он засунул в петлю здоровый ржавый гвоздь.
— Гляди! — показал он мне, когда мы уходили от конюшни. На лавке сидел пустой тулуп. Палка подпирала воротник, и в темноте тулуп походил на сторожа.
— Вот хитрая старуха, — покачал головой Васька, — ночью спит, а под утро сама выходит.
Домой мы пробирались задами, потом огородом. Васька шмыгнул в ограду первым, за ним шагнул я.
— Кхм, кхм! — откашлялся кто–то в полумраке. Мы вздрогнули. На крылечке сидели тетя Нюра и инвалид.
Васька затоптался, растерявшись, и вдруг сказал:
— Здрасьте!
— Здрасьте, здрасьте! — ответила тетя Нюра, поднимаясь. — Вот я тебя вожжами–то! — Но, заметив наши синяки и разбитые губы, села снова. — Господи! — проговорила она испуганно. — Господи! Никак на вечерке гуляли?
— Ну мы им там дали! — весело отозвался Васька, приходя в себя.
Семен Андреевич засмеялся.
— Вот видишь, Нюра, — сказал он, — а ты горюешь! Раз парни на вечерках дерутся, значит, ничего! Значит, еще жить можно!..
Рано утром Васька больно ткнул меня в бок. Я крякнул, оторвал голову от подушки и, падая снова, не в силах бороться со сном, услышал, как в огороде прощается Семен Андреевич.
— Спасибо за хлеб–соль, — говорил он тете Нюре, — поехали странничать далее. На обратном пути заглянем еще, обутки раздать заеду, которые приготовить не успел.
— Милости просим, — ответила тетя Нюра. — Милости просим.
Я едва поднялся. Закрывая глаза, я жевал хлеб, запивая его молоком, и думал, что все–таки уговор дороже денег: сам же я просил тетю Нюру взять меня на жатву.
Она уже собралась, сложила в куль три круглых хлебных каравая, еще горячих, как мой кусок.
— Нравится хлебушко–то? — спросила тетя Нюра, снисходительно улыбаясь мне.
— Горячий еще, — ответил я.
— Твоя работа. Я не понял.
— Ну ты клевер–то вчера брал? — спросила тетя Нюра, — так хлебушко этот из муки с клевером, травяной.
Я взглянул на кусок. Хлеб как хлеб, только черней, чем в городе. Откусил еще, разжевал внимательно. Нет, конечно, не то, жесткий какой–то и горький. Но тете Нюре не сознался.
— Хороший, — подтвердил я, удивляясь: никогда не думал, что хлеб из клевера бывает.
Вот мы и расставались с Васькой: я уходил, а он оставался. Тетя Нюра наказывала ему:
— Ты тут домовничай, бабушка–то на памятник идет. С Макарычем не ругайся. Мы, может, неделю не будем…
До полевого стана — нескольких шалашей, укрытых сеном, возле которого чадил костерок, — мы добирались больше часа, и когда пришли, жатва была в разгаре.
Тетя Нюра, повязав низко на лоб платок, сразу ушла в поле. Я присел у костра.
Клонило в сон. Ночное приключение не выходило из головы, но теперь я думал о нем улыбаясь. Мы победили, и пусть я в этой победе был только свидетелем, победа была за нами…
Сзади зашуршала трава. Я обернулся. На меня испуганно глядела Маруська, та самая Маруська, которую я осрамил возле речки.
— Ты что тут делаешь? — спросил я удивленно.
— Кашеварить помогаю, — ответила Маруська, и тут же из–за шалаша вышла дряхлая старуха. Она волокла по земле черный чан, до блеска промытый изнутри.
— Давайте помогу! — сказал я, шагая бабке навстречу, но та отмахнулась.
— Вы лучше дак подберите еще хворосту дак, а то не хватит, — сказала скороговоркой Маруська и проглотила слюну.
Маруська повела меня за собой, в полчаса мы натаскали огромный ворох сучьев, я отряхнулся и пошел в поле проведать тетю Нюру.
Я шагал, бодро насвистывая, и вдруг увидел, что какая–то старуха с серпом упала на землю. Я подбежал к ней, схватил за руку, чтобы помочь, но старуха повернула ко мне усохшее, плоское как доска лицо и спросила бойко:
— Ты что, касатик?
Только сейчас я заметил, что бабкины ноги обмотаны мешковиной — грубой, толстой мешковиной — и обвязаны бечевкой.
— Ты чо, милок? — повторила бабка, и карие глаза ее блеснули.
— Да не–ет, — протянула она, понимая меня, — это я так работаю! Спина–то меня не держит, стара стала, вот и приладилась! — Она двинулась вперед на обмотанных мешковиной коленках, ловко подсекла серпом колосья, словно ковшиком воду зачерпнула, и сложила пучок рядом.
— Так вам не помочь? — растерянно спросил я.
— Нет, паренек, я настырная, я и так пожну, еще басчей выйдет, чишше.
Я пошел дальше. Бабкина голова скрылась в колосья, а я все оборачивался и не мог поверить себе. Никак не мог поверить, что человек может так работать.
— Николка! — обрадовалась тетя Нюра, с трудом разгибая спину. — Поглядеть пришел?
В одной руке она держала серп, блестевший на солнце.
— Нет, — сказал я, — не поглядеть. Подсобить. Дайте пожну.
Тетя Нюра рассмеялась, но протянула мне серп.
Я наклонился, взялся рукой на пук стеблей, подрезал их со звоном — серп оказался острым. Но мне было неудобно. Я встал на колено, хватанул еще один пук.
— Пониже, пониже режь, — сказала тетя Нюра, — солома ныне пригодится, снова зимовать впроголодь станем.
Я срезал колосья, пыхтел; обливался потом и торопился. Сзади стояла тетя Нюра, и мне хотелось показать, что я умею работать не хуже других взрослых и, уж конечно, не хуже той высохшей старухи на коленках. Изредка я поднимался, глядел в ту сторону, где ничего не было видно — только шевелились колосья. Тетя Нюра выжала, конечно, дальше той старухи, но теперь бабка сокращала разрыв. Я снова наклонялся, резал колосья, складывал их в кучу, тетя Нюра вязала сноп, но всякий раз, как я поднимал голову, бабка на коленях выравнивалась с нашим прокосом все ясней и четче. Но тетя Нюра не спешила, не отнимала у меня серп, словно чего–то тянула.
— Николка, — спросила она, и я едва расслышал ее голос: в висках у меня гудела кровь. — Николка, — повторила тетя Нюра громче, видя, что я не отвечаю. — Отец–то твой не вернулся?