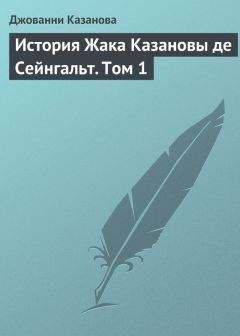Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 6
Была сильная жара, и под предлогом необходимости освежиться, будучи уверены, что никто нас не побеспокоит, мы дошли, раздеваясь, постепенно до почти натурального вида. Я стал опасаться, смогу ли я последовать примеру остальных четверых. Какая оргия! Мы поднялись в своем веселье до таких высот, что, цитируя непристойную поэму де Грекура, я был вынужден продемонстрировать трем девицам, каждой в свою очередь, по какому случаю произносилась там фраза: Gaudeant bene nati[47].
Я видел, что синдик горд тем подарком, который он сделал в виде моей персоны этим трем девицам, которые, как я видел, должны были с ним питаться весьма скудно, поскольку его сладострастие шло, в основном, от головы. Это чувство заставило их в час после полуночи доставить мне эякуляцию, в которой я безусловно нуждался. Я поцеловал в заключение шесть прекрасных рук, которые опустились до этой работы, всегда унизительной для любой женщины, созданной для любви, которой, однако, не могло быть в том фарсе, который мы разыграли, потому что, желая их любезно поберечь, я оказал им, с помощью похотливого синдика, такую же услугу. Они благодарили меня без конца, и я видел, что они очарованы. Когда синдик пригласил меня на завтра, я сам выразил ему миллион благодарностей, когда он провожал меня домой. Он сказал мне, что это его заслуга, что он один воспитал этих трех девиц, и что я первый мужчина, которого он с ними познакомил. Он просил меня продолжать оберегать их от возможности забеременеть, потому что это несчастье будет для них фатальным в таком городе, как Женева, скрупулезно следящем за нравственностью.
На следующий день я написал г-ну де Вольтеру письмо белым стихом, что мне стоило дороже, чем если бы я писал в рифму. Я отправил ему вместе с этим поэму Теофиля Фоленга, и сделал большую ошибку, отправив его, потому что должен был догадаться, что она ему не понравится. Я спустился затем к г-ну Фоксу, куда пришли два англичанина и предложили мне реванш. Я проиграл сотню луи. Они отправились после обеда в Лозанну.
Узнав от самого синдика, что эти три девицы небогаты, я пошел к золотых дел мастеру и заказал отлить мне шесть золотых дублонов «да охо»[48], заказав ему также три золотых шарика, по две унции каждый. Я знал, каким образом сделать им подарок, не обидев при этом. Я направился в полдень к г-ну де Вольтеру, который не принимал. Но м-м Денис меня развлекла. У нее была ясная голова, множество вкуса, начитанность без претензий, и она была большой враг короля Прусского. Она спросила у меня новости о моей прекрасной служанке и была очень рада узнать, что та вышла замуж за метрдотеля посла. Она просила меня рассказать, как я спасся из Пьомби, и я обещал удовлетворить ее любопытство в следующий раз.
Г-н де Вольтер не вышел к столу. Он появился только в пять часов, держа в руке письмо.
— Знаете ли вы, — спросил он у меня, — маркиза Альбергати Капачелли, сенатора из Болоньи, и графа Парадизи?
— Я не знаю Парадизи, но по виду и по отзывам — г-на Альбергати, но он не сенатор, а «из Сорока», которых в Болонье числом не сорок , а пятьдесят .
— Помилосердствуйте! Это загадка.
— Вы его знаете?
— Нет, но он направил мне «Театр Гольдони», болонских колбасок, перевод моего «Танкреда» и он приедет меня повидать.
— Он не приедет, он не настолько глуп.
— Как глуп? Но это правда, что он совершает эту глупость — приехать меня повидать.
— Я говорю о д'Альбергати. Он знает, что он здесь много потеряет, потому что он лелеет мысль, что вы, возможно, думаете о нем. Он уверен, что если он приедет с вами увидеться, вы разглядите его величие или ничтожество, и — прощай иллюзия. Это, впрочем, добрый джентльмен, который имеет шесть тысяч цехинов ренты и театроманию. Он хороший актер и автор несмешных комедий в прозе.
— Прелестное описание. Но каким образом он одновременно и сороковой и пятидесятый?
— Так же как полдень в Базеле приходится на одиннадцать часов.
— Понимаю. Так же как ваш Совет Десяти состоит из семнадцати.
— Совершенно верно. Но пресловутые сорок в Болонье — немного другое.
— Почему пресловутые ?
— Потому что они не зависят от казны, и поэтому совершают любые преступления, какие захотят, и могут находиться вне государства, где, тем не менее, получают свои доходы.
— Это же благословение, а никак не проклятие; но продолжим. Маркиз Альбергати, без сомнения, человек литературный.
— Он пишет хорошо, на своем языке, который знает; но он утомляет читателя, поскольку слушает сам себя, и отнюдь не лаконичен. Голова его, впрочем, пуста.
— Но он актер, вы мне сказали.
— Превосходный, когда он говорит от себя, особенно в ролях влюбленных.
— Он красив?
— На театре, но не в жизни. Его лицо ничего не говорит.
— Но его пьесы нравятся.
— Отнюдь. Их освистывают, если могут понять.
— А что скажете вы о Гольдони?
— Это наш Мольер.
— Почему он называет себя поэтом герцога Пармского?
— Чтобы дать себе титул, потому что герцог об этом ничего не знает. Он называет себя также адвокатом, и является им только в потенции. Он хороший автор комедий, и это все. Я его друг, и вся Венеция его знает. В обществе он не блещет, он безвкусен и сладок, как алтейный корень.
— Мне о нем писали. Он беден и хочет покинуть Венецию. Это должно расстроить хозяев театров, где играются его пьесы.
— Говорят, что ему хотели назначить пенсион, но отказались. Решили, что, имея пенсион, он не будет больше работать.
— Кумы отказали в пенсионе Гомеру, поскольку опасались, что все слепцы потребуют того же.
Мы провели день очень весело. Он поблагодарил меня за «Макароникон» и пообещал его прочесть. Он представил мне иезуита, которого держал у себя на службе, сказав, что его зовут Адам, но что он не первый из людей, и мне сказали, что, развлекаясь с ним игрой в трик-трак, он при проигрыше часто швыряет тому в нос кости и рожок.
Вечером, едва вернувшись в гостиницу, я получил свои три золотых шарика, и, немного погодя, увидел моего дорогого синдика, который увел меня на свою оргию.
Дорогой он рассуждал о чувстве стыда, которое мешает нам демонстрировать те сцены, которые с детства внушают нам держать втайне. Он говорил, что зачастую этот стыд может происходить от добродетели, но эта добродетель еще более слаба, чем сила воспитания, потому что не может устоять при атаке, когда агрессор знает, как взяться за дело. Самый легкий из всех способов, по его мнению, это не допускать его наличия, не придавать ему никакого значения, полагать его странным; нужно, например, быть резким, преодолевая барьеры стыдливости, и победа будет неизбежна; наглость атакующего заставит мгновенно исчезнуть целомудрие атакуемого.