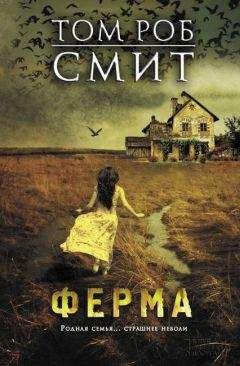Владимир Крупин - Выбранные места из дневников 70-х годов
21/I. Насмелясь, отдал Викулову прочесть о Куликовом. Взял он, видно было, нехотя. Уронил, когда брал. Но не буду верить в приметы, так как на пути к истинной вере.
22 января. А Викулов прочел, и быстро прочел. Вроде хочет печатать. Сделал замечания, обличающие мышление гл. редактора, но прочел, и надо доработать и прислушаться. Пока на распутье — вчерашнее начало отложил, голова пуста — занимаю Достоевским. Но хорошо ли читать в рабочее время? Ответил: да, если чтение Достоевского есть тяжелейшая работа.
Снегири прилетели.
День — Достоевский.
Домой звонил. Надя печальна, вряд ли приедет. Только 11 дней не был я дома, но уже целая разлука, вернусь, будет трудно, и знаю, что здешняя квазиидеальная жизнь забудется сразу же.
Вечером читал и не мог оставаться один, прочел ночную прогулку Ставрогина, пошел к Жукову, он болен, весь в банках, как справка, прошедшая все инстанции, шутит он. Долгий, до полуночи, разговор о Достоевском и Горьком и, как всегда перескакивая, о нынешнем примитивном состоянии литературы, которая хотя и впереди всех западных, но лишена прежней смелости оперировать категориями власти, денег, обществ, поисков мысли, обличения пошлости, прикрытой официальными обязанностями, и т. д.
Ну кто же исследует тему: юмор в книгах Достоевского? Ведь какой там мистик, какие сумерки? “Я червь, я раб, но не Бог, этим только отличаюсь от Державина”. Ведь засмеялся, когда написал.
24 января, среда. Уезжаю! Раз не пишется, следовательно, просто быть — преступно. У Кати ножка болит, Вовочка уж, наверное, забыл, ведь 20 дней с одним приездом я без них. Все прогулки этих дней походили на прощание — обошел все места, вчера еще одно — поморозил щеки, был красный, лицо горело.
Но все-таки не зря было утро года: три листа прозы, две рецензии для журнала, врезка для “Комс. пламени”, два ответа больших на две рукописи — чего, разве мало. Жаль, конечно, что о мастерицах не написал, не знаю, как писать.
Синицам принес хлеба. Даже веселей стало от решения уехать, эти 3–4 дня ничего не прибавят. Наде позвонил — рада. Еду.
Расставил все в комнате, как было, стол повернул лбом к окну. Обошел на прощание еще несколько тропинок. Морозно, на горизонте курчавые облака берез. Даже ели все серые от мороза, каждая иголочка в крохотном инее.
26 января. Два дня в Москве — такой разброд и во времени, и делах. Звонки, суесловие, тут еще альманах “Метрополь”.
Готовлю проспект сборника о поле Куликовом.
Утром чуточку гулял с сыном. Не спал, серьезный, а начнешь говорить: это небо, это дерево, — смеется. Он, конечно, все знает.
1 февраля. Туманы, грязь, ветры, а еще не отошли от морозов. Читал в “Правде” почту о морозах: c заводов снимали людей, везли на фермы доить коров. Замерзали дрозды, много смертей, прорывало радиаторы, вода мерзла на полу, в квартирах жгли костры, чтоб выжить. Как непрочно всё. А потом слякоть, снега — автобусы не идут, под мостом залило выше выхлопных труб, хожу пешком от молочной кухни.
С утра гулял с сыночком. Он спит, читаю над ним молитвы. Когда не спит — прямо живчик, веселый, озорной, учит играть с ним.
10 февраля. Кончил статью о “Повестях Белкина”. Смешно сказать — заканчивал три раза. Уж ставил точку, но продолжал. А так что еще? — сборник по Куликовской битве, крохотная рецензия, день рождения Кати, кроватка для сына, поездки. Гонорар в “Сов. России”, такой крохотный, что вновь голод, то есть не голод, а нищета, есть-то есть что, но ни за квартиру, ни за музыку, ни за свет (газ, телефон) не плачено. Долги громадные. За рецензии в “Новом мире” платят по 3 рубля за лист. Дают тонкие — пишешь пять страниц за 12 рублей. Все к тому, что жить тяжело. Может быть, это и хорошо — все по заповедям, — не страдая, нельзя спастись.
Сейчас еще светло, но уже полная, радостная луна. Жаль, что рано, хотелось ее встретить в Михайловском. А это к тому, что, кажется, судьба посылает мне поездку в Новгород и Псков. Еще и потому хорошо, что избавлюсь от трех мероприятий в ЦДЛ, в котором нынче, к счастью, был один раз по нужде.
11/II. Помимо меня копятся и тянет их записывать — заготовки к роману.
Ту запись, которую хотел сюда — о пути к вере — , не смогу записать, не смогу. А может, боюсь или что-то отводит руку. Вера спасает. Как бы без нее я отстал от многих грехов, например от пьянства? Хоть я и не пил в этом смысле этого страшного слова — пьянство, но дело шло к тому.
После каждой буквы дергаюсь к сыночку — сидим вдвоем, мама в магазин за картошкой ушла. Он уже делает 4–5 шагов. Все замечает, где что не на месте лежит или что-то новое появляется, он сразу видит. Надя любит его без ума, именно без ума, готова убить за него. Немного я в соавторстве с сыном наработаю. Играет деревянным яйцом. Также не выпускает печеньишко. Откусит, поиграет, снова откусит. Кряхтит. Говорит мало и сам. А так проси не проси — только вскрики восторга. Газеты любит рвать, как и сестра. Тянется именно за свежими, хотя из-за свинца в краске боимся, руки чернеют. Но старых новостей не терпит. С громадным мишкой играет в барана, упирается лбом. Показывает, где у мишки глазки и у себя. На горшке сидит часто, но безуспешно, ему интересней мочить штаны, а не пластмассу. На нас ездит, припаривает лихо. Но не гоняется. Иногда замолкает, занявшись игрушкой. Но ненадолго. Но Катя и по стольку не терпела. А она занялась шитьем на подаренной машинке. Вчера говорил с мамой. Все же продолжает работать.
Вот заговорил: “Да! Да!”, потом тише: “Да, да”.
11 марта. Сегодня сынчику 11 месяцев, Кате только что отметили 12 лет. Наде не скажу, сколько, она молодая, а мне 37 с половиной. Как раз вчера годовщина смерти Пушкина. Вот-вот я буду старше его. Это рубеж. Прошу у судьбы Пскова, и Михайловского, и Новгорода. Но хочу там быть, как на исповеди, один. Боюсь загадывать.
Проверить себя. Не бегу ли в статьи и рецензии от главного — от прозы, не ищу ли в нужде и нищете, трудностях оправданий, не легок ли крест?
Зовут дети. Дети, а всего двое, но число множественное. Жить нелегко; нехватки, долги, бедность изнуряют прежде всего жену, нервы у нее избиты и сорваны, лечиться не хочет, считая, что мы к ней несправедливы. Усталость и бедность заездили ее, бессмысленно говорить, что живем не хуже других, видно же ей, что живем хуже многих — хожу в таком виде, что стыдно показаться. И она вся оборвалась, сапоги материны на резинке. За музыку Кате не плачено, а за нее лупят и за те месяцы, в которые Катя болела. Купила Надя в бассейн абонементы, но, как назло, потеряла их. Все одно к одному — боли в животе, чесотка на Кате и крики на Катю и меня, злость и все заменяющая любовь к сыну. Я терплю, но тоже не стальной. А всякие йоги, они во вред семьям, оттого они и не привились у нас — надо же кому-то вести хозяйство. Да и что о них — помогает вера, но, по Наде, и она эгоизм. Все правы, все измучены, все запутаны.