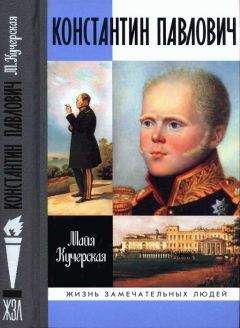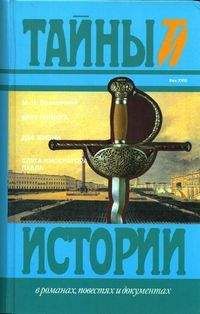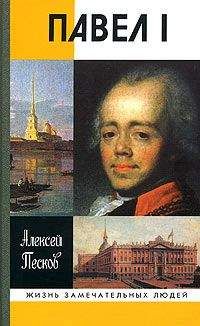Дмитрий Олейников - Николай I
Летом 1849 года русская армия спустилась с карпатских перевалов в тыл венграм, сражающимся с австрийцами. Теряя солдат не столько от боёв, сколько от холеры, Паскевич устремился в погоню за втрое уступавшими в силах повстанцами. Через два месяца венгерская армия капитулировала. Николай, получив известие о сдаче мятежников, «пал на колени и благодарил Бога за то, что Он любит православную Россию». Паскевичу он повелел воздать воинские почести, определённые уставом только императору[429]. Отправляя к австрийскому императору наследника Александра, Николай просил помиловать предводителя восставших — Гёргея, даже отпустить его в Россию. Николай просил простить и нижних чинов венгерской армии, и офицеров. Его просьба была исполнена частично: многие офицеры под разными предлогами были приговорены австрийцами к тюремному заключению и даже расстреляны и повешены[430].
Кроме военной помощи Россия выделила Австрии субсидию в шесть миллионов рублей. Австрийская империя была спасена от казавшегося неминуемым развала, чтобы всего через пять лет «отплатить» России враждебным нейтралитетом, во многом решившим судьбу Крымской войны. Николай не мог и подумать, что уже в 1850 году австрийский премьер Шварценберг скажет: «Мы удивим мир своей неблагодарностью!»
Именно после событий 1848—1849 годов Российская империя сочла возможным относиться к Австрии и Пруссии, как к «младшим партнёрам» по Священному союзу. На их соперничество в деле объединения Германии Николай смотрел как на опасную затею, чреватую большой войной в Европе, к тому же войной между важнейшими союзниками России. Ещё летом 1848 года по распоряжению Николая граф Нессельроде написал ноту, в которой говорилось, что объединение Германии «в том виде, в котором его желала жаждущая нивелировки и территориальных расширений демократия… рано или поздно вовлечёт её в состояние войны с её соседями»[431]. С соседями — то есть, возможно, и с Россией. В 1849 году, ощущая политическую слабость потрясённой восстаниями Австрии, Николай признавался Паскевичу: «Всего более опасаюсь я явного разрыва Австрии с Пруссиею, ибо оно одно может нас скорее всего завлечь в войну… Наша роль будет тогда сказать им: "Эй, ребята, не дурачься, а то вот я вас!"»[432].
Уже в следующем, 1850 году Николай перешёл от слов к делу: личным вмешательством он предотвратил попытки Пруссии занять принадлежавшие Дании герцогства Шлезвиг и Голштейн. Ещё через год по настоянию императора всероссийского был подписан ольмюцкий прусско-австрийский союзный договор. Это на какое-то время сняло напряжение в нараставшем соперничестве двух держав за лидерство в Центральной Европе, возможно, на 15 лет отодвинуло назревавшую между ними войну, но в памяти Пруссии запечатлелось как «ольмюцкий позор». А за Россией окончательно утвердилось прозвище «жандарм Европы».
Не готовый к компромиссам, Николай отстаивал свои внешнеполитические взгляды до конца. В результате к началу 1850-х годов внешняя политика России вызывала неприязнь сразу у четырёх крупнейших и влиятельнейших европейских государств:
у Великобритании, соперничество с которой на Востоке (в Турции и Иране) и в Греции начинало определять ход внешнеполитических событий в ближайшие десятилетия;
у Франции, которую Николай считал заразным рассадником революции и нового монарха которой, Наполеона III, отказался признать за равного (ещё в канун 1849 года Николай признавался, что готов терпеть племянника великого императора Франции как президента, но никогда не признает его в качестве монарха, даже если дело дойдёт до войны[433]);
у Австрии, для которой спокойствие славянских провинций и контроль над Балканами были важнее «чувства благодарности» за 1849 год;
у Пруссии, чьим планам встать во главе объединения Германии Россия активно препятствовала.
Так круг друзей стал кольцом соседей.
Глава семнадцатая.
«ВРЕМЕНА ШАТКИ — БЕРЕГИ ШАПКИ»
«Мрачное семилетие». По всей видимости, так эпоху окрестил либеральный литератор Пётр Васильевич Анненков, любивший, судя по его воспоминаниям, эпитет «мрачный». Он писал, что с французской февральской революции 1848 года «начинается царство мрака в России, всё увеличивавшееся до 1855 года»[434].
Европейские революции 1848—1849 годов вызвали состояние, названное современным историком «охранительной тревогой»[435]. Даже либеральный критик Виссарион Белинский «принял известие о революции 48 года в Париже почти с ужасом»[436]. А о «верхах» написал в дневнике Модест Андреевич Корф: «Между нашими, особенно между высшею аристократиею, много трусоватых, которым везде представляются уже возмущения, поджоги, убийства и которые нескрытно проповедуют, что каждому надобно готовиться к последнему часу и к мученической смерти»[437]. Князь Александр Сергеевич Меншиков, например, едва услышав о европейском возмущении, сообщил наследнику Александру о том, что и «у нас идёт явно подкопная работа либерализма»[438].
Манифест Николая от 14 марта 1848 года объявил о спокойном выжидательном отношении России к европейским беспорядкам: «Не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своём и нашей Богом нам вверенной России. Но да не будет так! <…> Древний наш возглас: за Веру, Царя и Отечество и ныне предукажет нам путь к победе и тогда… мы все вместе воскликнем: С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!»[439] Но современники увидели в этом манифесте желание Николая «действовать, разить, мощною своею рукой водворить снова везде порядок; ему, так сказать, стыдно и совестно за прочих монархов; а так не открылось ещё ни поля, ни прямых предметов действия, то его невольно влекло по крайней мере высказаться»[440].
По сравнению с революционной заразой даже холера, снова вернувшаяся в Россию, уже не казалась такой опасной. Николая больше заботил карантин нравственный ради предотвращения революционной эпидемии внутри страны. Характерно его письмо в Варшаву Паскевичу в марте 1848 года: «Здесь всё спокойно. Выезды за границу я совершенно запретил, сделай то же у себя; въезд к нам только за личной ответственностью министров и с моего предварительного разрешения, вели то же и в Польше; и в особенности прекрати свободный выезд по железной дороге»[441]. Паскевич отвечал, что и у него тихо: «Что мне сказать о здешних поляках? Не смеют ничего предпринять — не готовы»[442].