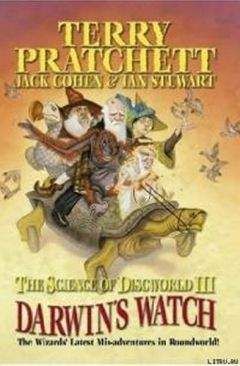Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей - Винарский Максим
Однако это вовсе не означает, будто эволюция делает свое дело совершенно хаотически, в режиме случайного поиска. В наши дни теоретики выделяют буквально десятки «законов» и «правил», которым подчиняются ее отдельные аспекты {394}. С некоторыми из них (закон Долло, правило Копа) мы уже встречались в предыдущих главах. Признаюсь, не все они выглядят безупречно, есть и такие, что основаны на явных натяжках и упрощениях, но само наличие закономерностей означает, что господство случая в эволюции вовсе не тотальное. Это монарх не абсолютный, а конституционный, ограниченный, и причем очень серьезно. В главе 8 я рассказывал о том, что естественный отбор окружен разными препонами и запретами, словно стая волков – охотничьими красными флажками. О том, почему не бывает шестиногих слонов и восьмикрылых фазанов. О том, что любой вид – «жертва собственной истории», почти не способная эволюционировать в некоторых направлениях и еще менее способная «зачеркнуть» свое эволюционное прошлое. (Вот почему у человеческого зародыша в очень нежном возрасте формируются жаберные щели, из которых никогда не разовьются настоящие жабры. Фантастический ихтиандр – продукт биоинженерии, а не мутации.)
Поэтому, хотя мы не верим в предначертанную эволюционную программу, сегодня никого не смущает утверждение, что эволюция в некоторых аспектах все же является направленной. Как образно выражался все тот же Лев Берг, она идет «по определенному руслу, подобно электрическому току, распространяющемуся вдоль проволоки» {395}. Или, как мраморный шарик, катится с горки вниз по наклонному желобу. Эта метафора взята из работ английского биолога Конрада Уоддингтона (1905–1975). У шарика нет и не может быть права выбора, свободы воли, но реальная жизнь тем и интересна, что в ней происходят непредвиденные вещи. Макромутации, о которых речь шла выше, можно уподобить «внезапным» боковым ответвлениям нашего желоба, уводящим шарик-эволюцию далеко в сторону (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Метафора наклонного желоба, заставляющего шарик катиться в определенном направлении (обозначено N). Подходит для описания как зародышевого развития, так и направленной эволюции {396}
Да, но ведь мутации – хоть «микро-», хоть «макро-» – непредсказуемы и спонтанны. Выходит, нам никогда не вырваться из цепких объятий случая? Ответ очень прост. Не нужно абсолютизировать роль мутаций. Сами по себе они значат для эволюции не так уж много. Это лишь сырой материал, поступающий в суровые руки естественного отбора, которому надлежит вынести вердикт об их судьбе. Здесь тоже нет никакого случая или произвола. Естественный отбор безличен, не имеет пристрастий и любимчиков и потому оценивает мутации строго в конкретных условиях места и времени. То, что им не соответствует, немедленно бракуется. Представьте себе макромутацию безволосости, проявившуюся в потомстве пары белых медведей (в Арктике! Бр-р-р…). Ясно, что жизнь ее носителя будет короткой и печальной. Но даже и очень удачная, уместная в данных обстоятельствах макромутация не дает автоматически начало новому виду. Любой вид существует в конкретной экосистеме, окружен совершенно определенными врагами, конкурентами и потенциальными жертвами. Только если перспективный макромутант сможет дать потомство, если это потомство сумеет отвоевать себе место под солнцем (определенную экологическую нишу), мы вправе говорить о том, что на Земле одним видом живых существ стало больше. Здесь последнее слово тоже остается за естественным отбором. А что касается большинства мутаций – тех, которые не «макро-», а «микро-», – с ними разговор короткий. На основе единственной подобной мутации не возникает ни одно сколь-нибудь важное и сложное эволюционное изобретение, например новый орган движения или чувств. Все они являются порождением целого «оркестра» взаимодействующих генов, которых могут потребоваться десятки. Как образно выразился Уоддингтон, форма гравия на речном дне определяется случайными процессами, но из этого никак не следует, что бетонный мост, при изготовлении которого этот гравий использован, тоже продукт чистой случайности {397}.
Всего сказанного выше, кажется, достаточно, чтобы убедиться: ходячее представление о теории Дарвина как о торжестве слепой случайности, не способной создать ничего творчески нового и интересного, чрезвычайно далеко от реальности. Похоже, что критики, выставляющие дарвинизм в таком свете, ведут диалог с «воображаемым дураком» – вымышленным оппонентом, которому приписывают разные карикатурные мнения, ведь их так приятно потом опровергать. В природе случай и необходимость идут рука об руку, а то и сливаются почти до полной неразличимости.
Настало время ответить на вопрос, который и в наши дни волнует многих: в чем Дарвин был неправ? Во многом, учитывая, что во времена, когда ученый жил и работал, биология только выбралась из младенческих пеленок. Я не хотел бы останавливаться на его ошибках (добросовестных заблуждениях), связанных с общим состоянием дел в науке середины XIX в., которые позднее были спокойно, в рабочем порядке исправлены. Если же брать сомнительные постулаты его теории, то одним из самых влиятельных и «долгоиграющих» оказалась идея о том, что эволюция – процесс по определению очень медленный и постепенный. Дарвин был убежден в справедливости старого афоризма Лейбница: Natura not facit saltum (природа не делает скачков) {398}. В заключительной главе «Происхождения видов», где дается сжатый очерк и повторение теории естественного отбора, читаем:
…так как естественный отбор действует исключительно путем кумуляции незначительных последовательных благоприятных вариаций, то он и не может производить значительных или внезапных модификаций; он подвигается вперед только короткими и медленными шагами {399} (курсив мой. – М. В.).
Написано твердой рукой уверенного в своей правоте человека. Никаких нюансов и смягчающих оговорок. Сказал как отрезал {400}.
Лев Берг окрестил дарвиновскую теорию тихогенезом (от греч. τυχη – случай). Но мне, как носителю русского языка, нравится и ложная этимология, которую подсказывает этот термин. Дарвиновская эволюция идет «тихим ходом», как бы задумчиво и совсем незаметно, как незаметен глазу упрямый рост сталактитов в пещерах. И это не только неумолимый логический вывод из механизма действия естественного отбора (на цыпочках, мелкими-премелкими шажками вперед), но и нечто реально подсмотренное у природы.
Дарвин, мы помним, первую половину своей жизни в науке был больше геологом, чем биологом, и притом геологом первоклассным. Среди его интеллектуальных «отцов» в этой области не только Адам Седжвик, но и Чарльз Лайель, открывший новую эпоху своим трактатом «Принципы геологии», вышедшим в трех томах между 1830 и 1833 гг. Этот труд по степени влияния на развитие науки часто сравнивают с «Происхождением видов». Молодой Дарвин взял его с собой в кругосветное плавание и прочитал с превеликим вниманием.
Научными противниками Лайеля выступали геологи, вошедшие в историю под названием катастрофистов. Страшноватое слово «катастрофизм» было придумано в 1832 г., но сама идея значительно старше. Еще в 1774 г. немецкий натуралист Авраам Готтлоб Вернер высказал мысль, что Творец время от времени вмешивается в жизнь Земли, насылая на нашу бедную планету «всемирные потопы». Вслед за Вернером к подобным гипотезам обратились и другие ученые, пытавшиеся понять, как сформировался привычный нам лик Земли. Классический катастрофизм в любых его видах предполагал, что наша планета в давние времена была очень и очень неспокойна, ее поверхность быстро и резко меняли мощнейшие катаклизмы. Какие именно – каждый додумывал сам в зависимости от своей фантазии и чувства меры. Наводнения, извержения вулканов, грандиозные землетрясения, столкновения Земли с другими небесными телами – трудно назвать хотя бы один разрушительный фактор, ускользнувший от внимания геологов-катастрофистов. Естественно, в те времена они вдохновлялись ветхозаветной мифологией с ее «образцовой катастрофой» – Всемирным потопом, уничтожившим практически все живое на белом свете.