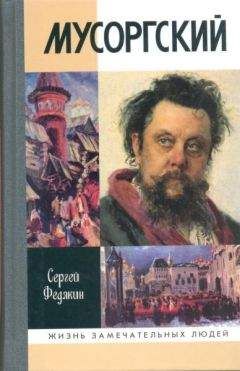Скрябин - Федякин Сергей Романович
Но и эти воспоминания имеют свою ценность. Они показывают, во что могут превратиться воспоминания современников, и, главное, какими глазами будет видеть подобные события человек, подходящий к жизни художника только «чисто житейски». То, что второй брак Скрябина таил в себе попытку художника уйти от творческого одиночества, от ужаса перед мыслью: «я — один!» — становится очевидным, когда прикасаешься к разным документам, разным свидетельствам. Конечно, и эта попытка вряд ли была во всем удачной: Татьяна Федоровна не смогла разделить полностью страдания его творческой жизни, предпочитая делить с мужем только радости. Но большой художник обречен на одиночество, даже если у него есть круг единомышленников. Слишком мир, им создаваемый, «не совпадает» с миром привычным, обыденным. К тому же в первые годы совместной жизни с Татьяной Федоровной композитор, несмотря на крайнюю нужду, был действительно счастлив. В эти годы он и создал самое радостное свое произведение, знаменитую «Поэму экстаза». Хотя начиналась она еще в Париже и сопровождалась событиями далеко не радостными.
* * *
Расхожая формула в биографиях Скрябина: после парижских концертов, в начале июня 1905 года, он уезжает в Италию с Татьяной Федоровной уже как со своей второй женой. И все же — был ли этот шаг к этому времени окончательным и бесповоротным? В письме к Вере Ивановне ничего определенного: «Я скоро поеду немного попутешествовать, а в конце месяца или в самом начале июля мы увидимся». Правда, есть фразы с «проговором». Рядом с Верой Ивановной живет теперь Ида Юльевна Шлёцер, которая так много сделала для Веры Ивановны в прошлом. (И которая никак не могла одобрить выходки своей племянницы, «укравшей» мужа у ее воспитанницы.) Скрябин в своем письме замечает: «Как я рад, что ты не одна. Поцелуй от меня Иду Юльевну и упроси ее остаться подольше». Здесь и очевидность: он не одинок, он чувствует себя «на подъеме» и хочет, чтобы и Веру Ивановну не угнетало их расставание. И все же Татьяну Федоровну еще трудно назвать «женой», даже «неофициальной». Семья Скрябина — это пока еще Вера Ивановна с детьми (пусть и оставленная). Отсюда и эти его наставления: «Вушенька милая, обрати внимание на кашель Ляли, не запусти, она слабенькая. Летом поправиться только и можно. Римма молодец, поцелуй ее от меня покрепче и скажи, что за хорошие экзамены получит от меня в подарок книжку. Марусю от меня подразни, а Левку нашлепай…»
Читая такие строки, Вера Ивановна вполне могла считать, что их расхождение с Александром Николаевичем — не окончательное. Ведь и следующее письмо — опять — не содержит в себе окончательного разрыва: «Дорогая Буша! Вот я уже и не в Париже. Как я рад, что не нахожусь в этой ужасной грязи! Проживу здесь недели две, а потом мы увидимся».
В середине июня он действительно приезжает в Везна, к семье. Испуганной Татьяне Федоровне посылает ласковые письма. Ее постоянный упрек: «Ты меня не так любишь, как я тебя», — пытается отвести, «заговорить»: «Танюка моя, радость милая, звездочка моя, да не беспокойся ты ни о чем, уж люблю, люблю! Да уж люблю! Не плакать, а радоваться ты должна, потому что нас ожидает только хорошее. Поездка моя сюда теперь принесет для нас с тобой большую пользу. Отношения все более выясняются и устанавливаются.
Вера гораздо спокойнее говорит обо всем и часто упоминает о тебе. Иде Юльевне я говорил вчера о Боре и тебе (нарочно об обоих вместе, так было нужно) в таких выражениях и с таким восторгом, что она была совершенно поражена, видя меня в первый раз в жизни в экстазе из-за кого-нибудь, кроме меня самого, как она сказала».
Вере Ивановне он решается открыть, что Татьяна Федоровна «в положении». Ему кажется, что жена «очень сердечно и мило это приняла». На самом деле — та пребывает в самом угнетенном состоянии. Семейная жизнь рушилась бесповоротно. Маргарита Кирилловна вспомнит, как Александр Николаевич умолял ее поддержать Веру в первое время, вспомнит, с какой болью ее брошенная мужем подруга будет переживать новое свое положение. Надежда, высказанная в письме, пришедшем от Монигетти, что Саша к Вере еще вернется, рождает в ответ лишь вздох: хотелось бы верить, но… «Но это может случиться только в том случае, если не станет моей соперницы; слишком сильно и крепко она его держит и никогда не отпустит». Пока ей остается лишь самоотверженность: «А может быть… все и к лучшему. Может быть, это даст толчок мне встряхнуться и сделаться самой человеком. Я весь этот год играла и сделала порядочные успехи, так что даже Саша советует мне осенью выступить публично. Конечно, я играю только его сочинения и цель моя — его прославить. Не знаю только, удастся ли мне это».
Скрябин возвращается в Больяско. С дороги отсылает открытку Вере Ивановне, спрашивает о здоровье заболевшей Риммы. Почти тут же его настигает телеграмма о ее кончине.
Он снова мчится в Везна, на похороны. Горько рыдает над могилой. Клянет себя. Ему кажется, что смерть его любимицы — Божья кара. На призывы Татьяны Федоровны — когда же он вернется? — отвечает твердо: должен пробыть до девятого дня, когда в церкви будут служить панихиду. Уже из Больяско, измученный переживаниями и жарой, пишет Вере Ивановне с пробудившейся прежней нежностью. Уговаривает ее больше заниматься на фортепиано. Под конец — об умершей Римме: «Перекрести от меня Рушенькину могилку».
Смерть дочери дала новый прилив нежности к оставленной семье, но не сблизила с Верой Ивановной, скорее, напротив, отдалила от нее. Смерть ребенка словно провела «поперек» его жизни черту. Прошлое — его радости и его огорчения — ушло. Земная жизнь подошла к середине. В возрасте Иисуса Христа — 33 года — Скрябин пытается начать все заново, иначе.
* * *
«Мне кажется, что я совершил что-то ужасное!» — крик души, прорвавшийся в его письме к Морозовой, когда он решил оставить семью. «Это мне за то, что я их оставил!» — его мука, его убеждение после смерти Риммы. То, что его постигло Божье наказание, — в этом он не сомневался. Только вряд ли в таком состоянии способен был внятно объяснить: за что.
Первопричиной не был его уход. Линия водораздела лежала совсем в иной плоскости. «Перешагнуть черту», выйти за грани «человеческого, только человеческого» он попытался в симфонии. Ему удалось. Но такая степень торжества неминуемо влечет за собой кару. Произведение «ожило». Оно стало воздействовать на жизнь. После «Божественной игры» он не мог не оставить семьи: так диктовала его музыка.
Но стать «небожителем» навсегда смертному не дано. Дерзкого Фамиру кара ждет неизбежно. Если не в плане творческом (лишение дара), то в плане житейском (Фамира выжигает себе глаза). Надвигается судьба и на новую жизнь Скрябина, здесь — почти незаметно, начав с обычного, с нехватки денег.
Союз Скрябина с Татьяной Федоровной, пока он мало касался «земного», был редким счастьем. Как только его новая подруга стала превращаться в жену, — этот союз в плане человеческом был уже обречен на беды и несчастья. В основе его лежало то же стремление к «небожительству», к «все ради творчества». Попытка уйти от «земных пут», от человеческих условностей тут же вернулась мщением этих условностей. Татьяна Федоровна чуть ли не каждый день начинает ощущать незаконность своего положения. Раньше думалось — все ради Александра Николаевича, невзирая ни на что. Оказалось, что ответом могут быть не только косые взгляды, приправленные гримасой двусмысленных улыбок, не только пересуды, кривотолки, откровенное презрение. Оказалось, что «беззаконный» брак лишал чисто человеческих прав. Трудно было найти жилье, труднее организовать концерт. Дети, которые не замедлили появиться на свет, несли на себе печать незаконнорожденности. Они будто бы и не были детьми Скрябина, а только ее, Татьяны Федоровны Шлёцер.
Не удивительно, что еще до Больяско вопрос о разводе вставал перед Скрябиным со всей остротой. В Италии Татьяна Федоровна начинает его всячески торопить. Сначала — в ожидании ребенка, потом — после его рождения. «Ведь Вы понимаете, что мне лично развода не нужно, — скажет Скрябин Морозовой, когда она навестит его в Больяско, — но Вы видите, как Татьяна Федоровна болезненно относится к этому, и потому я решил писать Вере и просить ее дать развод».