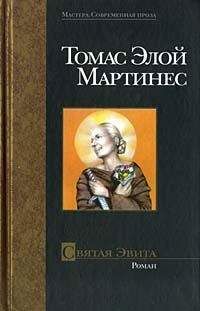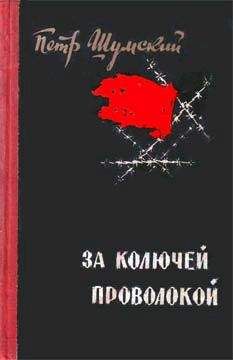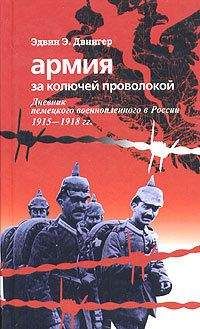Сильвен Райнер - Эвита. Подлинная жизнь Эвы Перон
Кардинал Руффини не забыл оскорбления, рассказ о котором обошел всех значительных представителей церкви. Впрочем, святой отец давно опасался идолопоклонства, насаждаемого в Аргентине супругами Перон в ущерб церкви.
Словно устыдившись такого резкого обращения к набожности и измятых брюк, Хуан Перон спустя полчаса после ухода из собора уже упивался изъявлениями глубокого почтения в огромном банкетном зале городской ратуши. Этот банкет давал в его честь начальник полиции города Росарио.
В окружении людей в военной форме, в атмосфере верности боевому долгу Перон снова оказался в седле и почувствовал себя хозяином. Он вновь обрел пыл всемогущества. В конце банкета он встал, намереваясь и здесь произнести речь. Перон начал вещать, выпрямившись во весь рост, потрясая при каждой фразе сжатыми кулаками. Больше и речи не было о ближнем, увиденном в свете любви, а говорилось о счетах, которые необходимо свести с этим самым ближним. Этот ближний больше не видится Перону простирающим к нему раскрытые объятия, теперь он видит его с оружием в руке, направленным против Перона…
Перон отбросил всякую дипломатию, всякое смирение и сказал, отчетливо выделяя каждое слово, что не пощадит никого из своих противников, каким бы ни было их социальное положение или одежда… По сути дела обращался он поверх толпы полицейских к прелатам, роившимся под деревьями Росарио…
Перон доводил себя угрозами до экстаза, как будто почерпнул часть ярости у Эвиты, которая советовала ему не склоняться перед церковниками, ведь один из важных представителей церкви только что унизил их. Перон словно раскаивался, что предал Эвиту, проявив эту кратковременную слабость — коленопреклонение в соборе. Он проявил вдруг непреклонность, достойную его железных учителей, заявив:
— Я ничего не оставлю моим врагам, даже правосудия!
Эти слова были с энтузиазмом приняты полицейскими, как капли святой воды…
8
В Кордове Перон никогда не собирал достаточно много голосов. Он решил создать здесь центр своих государственных предприятий, автомобильных и авиационных. Чтобы просветить эту провинцию, не желающую прислушиваться к его словам, Перон направил сюда немецких апостолов науки и техники, укрывшихся в Аргентине.
После войны в Аргентине оказалось семьдесят тысяч бывших военных нацистских техников, для которых покорение химической формулы или народа означало одно и то же — своего рода мистическое мероприятие. Перон предоставил полную свободу действий в Кордове этим поборникам порядка.
В солнечном городе среди гор, где бродили на свободе несметные стада коз, университет, основанный в семнадцатом веке, сверкал подобно старинному украшению среди банков, клубов, баров. Ничто не нарушало здесь духа старой Европы, даже кучка индейцев, дремлющих на выжженном плато.
За считанные годы прерии Кордовы покрылись бетоном цехов, стеклом, сталью, цементом и высокими трубами. Черный дым наполнил этот рай, где демократия не система, не формула, а реальность жизни. При Пероне и его неизменных нацистах Кордова стала городом, где отныне царит металл. Железнодорожные пути автомобильного завода пропахали километры прерий, цеха разрастались от одного подземного помещения к другому. Раскаты металлического грохота перекатывались над головами рабочих.
Птицы, что так мирно ворковали в течение трех веков на крышах университета и собора, каждый изгиб которого увенчан колокольчиком, испуганно разлетелись. В городе появились вышколенные немецкие техники, выпрыгивающие на ходу из машин, будто солдаты, бросающиеся в атаку. В глубине выдвижных ящиков своих письменных столов они еще хранили свои железные кресты. Беглые нацисты требовали, чтобы рабочие стояли навытяжку во время обхода цехов. Собираясь в баре, построенном для немцев на заводе, они будто по забывчивости порой цепляли на себя отдельные части прежней военной формы. Они избегали встречаться с жителями Кордовы, апатичность которых им претила. В один прекрасный день иллюзия стала полной, и бывшие нацисты поверили, что находятся на оккупированной территории, на неприятельской земле.
Однажды сборочные цеха прекратили работу в знак протеста. Столкнувшись с внезапной тишиной завода, техники немецкого бюро почувствовали себя во вражеском окружении. Прекращение работы было для них подобно предательству в тылу. Они вырвали револьверы у вялых аргентинских охранников и с оружием в руках появились на пороге цехов. Рабочие отступили под угрозой оружия и заняли свои места У станков.
Минуты замешательства прошли. Немцы не решались покинуть цеха, и тогда рабочие, спрятавшись за кузова машин, за верстаки и шины, принялись швырять инструменты в пришельцев. Грохот и лязг наполнили огромные помещения, будто шла драка старыми консервными банками.
Некоторое время спустя рабочие овладели нацистской униформой, которую немцы бережно хранили в своих шкафчиках, и бросили ее в костер, разожженный во дворе одного из цехов. Этот костер походил на тот печальный огонь, что разжигают крестьяне осенью, чтобы жечь сухие ветки и жухлую траву.
Потерепев фиаско в Кордове, превращенной им из очага духовного в очаг индустриальный, Перон твердо рассчитывал удержать свои позиции в Буэнос-Айресе. Жители этого сколка Европы, каким стал Буэнос-Айрес, действительно испытывали потребность прижаться друг к другу и затеряться в людской массе. Почти автоматически они сбивались в толпу. Это был единственный способ противостоять ужасному зеленому зеву пампы, окружающей город со всех сторон, где случайное облачко становилось утешительным зрелищем, а крик птицы казался дружеским знаком. Редкие деревья в пампе не скрашивали эту пустоту. Часто гаучо убивал быка с единственной целью привязать свою лошадь к его рогам. В этом слишком обширном краю мореплаватели высаживались только для того, чтобы отыскать проход в глубь страны или золото. Они боялись погружаться в эти безбрежные просторы, потому что одиночество в Аргентине не падало со звезд, а исходило от самой земли, опутывало ноги, леденило душу.
Когда иммигрант высаживался в Буэнос-Айресе, ему хотелось покончить с авантюрами. Он с удовольствием обнаруживал в этом городе признаки цивилизации, более компактные, чем оставшиеся на родине. Страх перед зеленым пространством, куда мало кто решался отправиться на завоевание удачи, становился у всех высадившихся в Аргентине зачатком новой национальности. Радуясь почтовому отделению, полицейскому, они замыкались в жарком клубке ностальгии. Страх затеряться крупинкой в ненасытном пространстве был для итальянцев, португальцев, басков и других цементом без единой трещины.