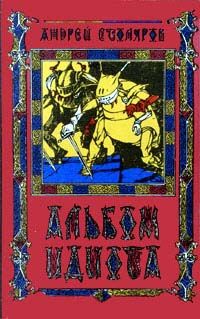Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
Сильно вечером, уставшие до потери бдительности, мы не подслушивали у деканата.
Николаевский рвал на гитаре довоенное. Зярник, как позывные, выстукивал на пианино свою единственную джазовую фразу. Фокин сорил хофмами. Черный разделся до трусов, залез на стол и, прикрывшись шубой из реквизита, изобразил рубенсовскую Шубку.
Кулешов возвратился один – объявлять:
– Вехотко – отлично, Ельцов – отлично, Ильинский – отлично, Кашкете – отлично, Лысенко – отлично, Микалаускас – отлично, Полока – отлично, Родичев – хорошо, Сергеев – отлично, Турусбекова – хорошо, Фокин – отлично, Черный – два…
Черный машинально поднялся, не ослышался ли:
– Простите, профессор…
– Не перебивайте меня!
Двойка – профнепригодность, автоматическое отчисление. Одного из самых способных. Фронтовика.
Назавтра Кулешов – для таких, как я – с нажимом:
– Причина отчисления Черного очень серьезная. Вспомните его очерк о встрече на Эльбе. Вы не почувствовали скрытую симпатию к американцам?
Год был пятьдесят второй, Черный был Марк.
Случай с Черным – сквозняк средней силы; можно надеяться, он обошелся без крови. Вообще сквозняки гуляли по ВГИКу все время.
Сквознячок на уровне быта. Общее комсомольское собрание. Главная блядь из дома терпимости министра Александрова (до разоблачения осталось год-два) клеймит с трибуны жалкую плачущую однокурсницу – кого-то к себе привела в общежитие на Зачатьевском.
Сквознячок позлокачественнее. Чиаурели привез тепленький Незабываемый 1919. На другой день народный артист и комсорг Вехотко отвел меня в угол и настоятельно:
– Это ты допускал высказывания во время просмотра? Михаил Эдишерович сидел в заднем ряду и слышал. Ты ведь сидел сзади. Кто допускал высказывания?
Я не помнил, допускал я или не допускал, но на всякий случай начисто отказался.
Куда более опасный сквозняк. Венгр Кашкете всегда погружен в невеселые мысли. Говорил мало. Держался возле народных артистов – похоже, потому что они были одеты почище и такие же рослые. В юности он что-то национализировал – за заслуги его и прислали в лучший и единственный в мире киноинститут.
Через семестр одаренный и работящий Кашкете, получив пятерку, запросился домой. Сам перестал ходить на занятия. Такой оплеухи лучший/единственный сроду не получал.
Наш объяснитель Кулешов отмалчивался. Венгры с других курсов послушно открыли грязьфронт:
– Там нехорошая женщина.
Ли Ген Дин, наоборот, отказался вернуться домой.
В середине учебного года в институте появились двое корейцев – на одно лицо и разят рыбой. За несколько недель рыба выветрилась, лица сделались разные. Ли Ген Дин – откровенный – признался, что поначалу все мы тоже выглядели на одно лицо.
Старшие братья, народные артисты, пытали желтого гостя:
– Ли, Чехова ты читал?
– Θтолько! – он руками показывал метр.
– А Есенина?
– Θтолько! – обхват толстой книги.
По сравнению с Кореей в эсэсэр было раздолье. Ли Ген Дину нравились мы, и он с удовольствием говорил – тихо, но правду:
– У Северной Кореи нет авиации. Только советские летчики.
– Китайцы – плохие солдаты. Мы их звали ленивые животные. Мы бежим в атаку – всех уже убили – или мы захватили, – а они еще идут из окопов. В Восьмой армии Чжу Дэ были одни корейцы.
По счастью, Ли Ген Дина сквозняки обошли.
Из народной Кореи Ли Ген Дин сбежал в свободный эсэсэр; из эсэсэра эстонец Ельцов сбежал в свободную Англию.
Он был rara avis, эстонизованный русский, сын шахтера из Киви-Ыли; от остальных эстонцев отличался только фамилией и безукоризненным двуязычием.
Обидчиво-принципиальный, он, казалось, всюду искал выход своей раздраженной энергии.
От профкома надумал взвесить шницели, которые подавали в соседней столовой – своей в институте не было. Гомерический недовес позволил ему возмущаться открыто и громко.
Он участвовал в ликвидации смертоубийственного сквозняка.
Мастер третьего режиссерского Александров доконал щуплую невзрачную эстонку. Она грохнулась на пол в истерике:
– Нэннавийсу! Нэннавийсу! Нэ хассу пыть здэсс! Хассу Калливутт! Калливутт!
Вгиковские эстонцы вовлеклись в тайную деятельность. Надо полагать, Александрову всем миром втолковали, что при огласке ему самому несдобровать. Дело замяли.
Сквозняк на уровне высшей меры наказания.
В большом просмотровом Родичев подвел меня к изящному третьекурснику:
– Это Миша Калик. Андрей, напой Мише Всадники в небе.
Через несколько дней Кулешов уселся в свое режиссерское кресло, положил очки на низенький столик, вынул большой красивый платок, вытер слезы, высморкался:
– Товарищи, произошло несчастье. В институте раскрыта банда американских шпионов во главе с Каликом и Черенцовым.
По Ельцову и Микала́ускасу я заключил, что с прибалтами мне легче, чем со старосоветскими.
Микалаускасу было крепко за тридцать, он имел актерский стаж – играл даже в оккупацию. Мне выдал редкостный предвоенный анекдот:
– Из Германии в Литву прибежал еврей. Его спрашивают, как зовут. Он говорит: И. М. – Как И. М.? – Да так. Я был Изак Майер, но Гитлер отрезал мне зак мит айер.
В Литве у Микалаускаса были прозвища Йоку́тис – смехунчик – за легкий характер и Моксли́нинкас – ученый – за привычку читать на улице, на ходу. В Москве он был настоящий Рашитоя́лис – писательчик, – ибо на лекциях, на переменках, в любые свободные десять минут он переводил на литовский текущую детскую литературу. На стипендию – двести двадцать – прожить было немыслимо, родители подкидывать не могли.
Старики его жили под Каунасом, но в Каунас ни разу не ездили: не было дела. Они не поверили, что в Москве есть метро: если столько вырыли под землей, куда подевали вырытую землю?
Жемайтийские истории про родителей Витас не выдумывал: по природе не фантазер, из другой области – словотворец. С русским языком был в прелестнейших отношениях:
похлопывая себя по животику: – А у меня пуз есть!
растирая ноги после физкультуры: – Мытищи болят.
как-то морг обозвал трупарней (есть у Игоря Северянина).
Я спрашивал, он радостно отвечал:
самое страшное литовское ругательство – ру́пуже (жаба); но есть и фольклорные три этажа – бибис may и а́ки (в глаза). По моему наущению, Витас сочинил бибис may и шикна (в жопу) и великолепное по звучанию бибис may и бурна (в рот).
Когда в мастерскую пришел Дабаши́нскас – отстал, год болел, – кто-то из народных артистов сразу ему в глаза: Бибиши́кнас. Он заморгал и вдруг с высоты своих двух метров восторженно грохнул, оскалясь, как тигр.
Наши лингвистические упражнения увенчало царское слово. На лагерном сборе Махнач в остервенении завопил бибижиндис! – и тотчас к нему, белобрысому, бросился белобрысый солдатик.
Лагерным сбором с первых дней нас запугивала военная кафедра в лице полковника Овчинникова.
Сроду не воевавший, неловко штатский, заземленно-хозяйственный, от бессилия злобы – почти добродушный, он то оправдывался перед нами, то, что-то вспомнив, усмехался и изрекал непонятное.
Опоздает на лекцию, объяснит:
– Крышу я крыл. Надо же крышу до заморозков покрыть?
На лекции после атомного удара на Мстибово, вдруг покряхтывая, облюбовывал кого-то из нас и почти ласково, ностальгически:
– Сирьге-ев, бу-удьте лошадью! – и не дожидаясь ответа, переходил на Липони-Дяки. Разговорщику укоризненно:
– Лысенкʼ, а вы – демокра-ат!
От укоризны к угрозам:
– Что я с вами гуманничать буду?
Распаляясь:
– Будете сами себе копать, дондеже не опупеешь!
Мы катили по улице Текстильщиков станковый пулемет, справа барачники комментировали: