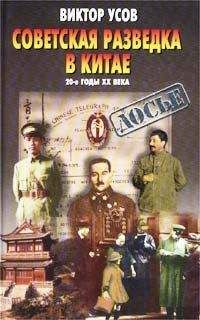Людмила Бояджиева - Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»
— Может, все же в Италию, к этому мерзавцу поедешь? — Гумилев не мог забыть о ненавистном Модильяни.
— Мы давно не поддерживаем отношений, — смиренно заверила Анна.
— Думаешь, с Шилейко будет лучше? Говорят, вы с ним воюете? Будто даже он запирал тебя?
— Ревновал, он же бешеный.
— И я был бешеный, когда за тобой четыре года ходил, в жены звал. А ты меня мучила. Чего ж теперь так быстро решилась?
— Взрослая стала. — Анне не хотелось трогать то, что таилось под тонким слоем мрачного спокойствия: раздражение к Шилейко, злость на себя, сожаление о потерянном. Может, именно сейчас общие бедствия сблизили бы их с Николаем и вышла бы нормальная человеческая семья? «Если позовет, скажу да», — решила вдруг она, и сердце заколотилось в волнении.
— Анна, хотел тебе сообщить… Видишь ли, мои чувства к тебе были, наверное, чрезмерно сильны. Потому все и выгорело… Почти все…
Она замерла, слушая стук сердца. Он медлил.
— Видишь ли… Имею честь сообщить вам, Анна Андреевна, что тоже женюсь. — Он шутливо поклонился. — Мою избранницу зовут Анна Николаевна Энгельгарт. Двадцати лет, хороша отменно. — В его голосе был вызов. Может быть, и он ждал, что Анна встрепенется, накинется на него с бранью, припоминая всех пассий. А потом скажет: «Давай начнем все заново!»
Но она лишь пожала плечами, молвила бесцветно и холодно:
— Удачи тебе с лучшей из женщин.
Увы, вторая жена Гумилева оказалась далеко не лучшей. Глупость в сочетании с самоуверенностью дают неприятный эффект. А потом еще открылось, что и самоуверенность — сплошной пшик: в трудных жизненных обстоятельствах молодая терялась и опускала руки. Родив дочь, грозилась даже отдать ее в приют.
Гумилев так и не достал из кармана френча сложенный листок с недавно написанными стихами. Он хотел показать их Анне.
Нежно-небывалая отрада
Прикоснулась к моему плечу,
И теперь мне ничего не надо,
Ни тебя, ни счастья не хочу.
Лишь одно бы принял я не споря —
Тихий, тихий золотой покой
Да двенадцать тысяч футов моря
Над моей пробитой головой.
Что же думать, как бы сладко нежил
Тот покой и вечный гул томил,
Если б только никогда я не жил,
Никогда не пел и не любил.
Глава 6
«Я рад, что он уходит, чад угарный». Н.Г.
В августе 1918 года был оформлен официальный развод Ахматовой и Гумилева, а в декабре того же года она заключила брак с Шилейко. Через год, в конце 1919 года, Шилейко и прописанную к нему жену попросили освободить помещение во флигеле национализированного дворца.
Анна Андреевна нашла выход — устроилась на работу в библиотеку Агрономического института и получила от работы комнату. Туда и заявился бездомный Шилейко. Пришлось оставить — не гнать же на улицу законного мужа. У него оказался огромный багаж — стопки увязанных веревкам книг. На улице мела метель, и, стоя на коленях, он спешно обмахивал драгоценные издания облезлой шапкой. Анна смотрела, как на полу растекается лужа, но даже не встала с топчана, на котором проводила большую часть свободного времени. Голод отнимал силы и желание двигаться. Невероятно, что когда-то она могла часами бегать на лыжах с Недоброво. Вот под таким снегом…
— Анюсечка, помоги, там соседи ругаются, что дверь на лестницу открыта, — взмолился взмыленный Шилей.
Она нехотя поднялась и пошла через темный, пахнущий застарелым жареным салом коридор к лестничной клетке. Подняла вязку книг и, шатаясь, закусив губу, потащила ее в комнату.
…Как раз в этот морозный декабрьский день в солнечном Бахчисарае, в доме, убранном оранжерейными гиацинтами — лиловыми и синими, умирал Николай Владимирович Недоброво. Анна ничего о судьбе бывшего друга не знала, а он не знал, что стало с ней. Заставлял себя не гадать, как сложилась судьба Анны Андреевны, где она теперь — с Анрепом или, может, с Гумилевым? Предположить, что исхудавшая Анна, жмурясь от головокружения, помогает новому мужу затаскивать в комнату по темному коммунальному коридору связанные бечевками книги, он, конечно, не мог. В тот миг, когда на подушку Николая Владимировича вдруг легло пятно яркого солнца, он понял, что это знак — призыв. Вдохнул последний раз, попытался сжать руку Любови Александровны и навсегда закрыл глаза. Синева его ввалившихся глаз, так поражавшая ее в последние дни, особенно яркая, оттененная лиловыми тенями на фарфоровом лице, погасла. Настала чернота, словно во всем мире выключили свет. Любовь Александровна потеряла сознание.
Ясновидение Анны не принесло ей весточку от Николая Владимировича, лишь на душе было тяжко и горько.
— Ну, ничего, устроимся, — огляделся Шилей, отдуваясь после перетаскивания тяжелого чемодана. Чемодан был старый, пахнущий плесенью из каких-то графских кладовок. Смутно в углу просматривался тисненный золотом герб Шереметевых «Deus conservat omnia» — «Бог сохраняет все».
События последних лет — буржуазная революция, отречение Николая Второго, Октябрьский переворот, Гражданская война, разруха, мучая страхом, голодом, холодом, не зацепили Музу Ахматовой, не заставили «стать летописцем утрат» и, к счастью, «провозвестником светлого будущего». Социальные потрясения — не ее стихия, романтическое упоение химерами — презренный жанр. Жизнь — какая она стала — вошла нарастанием тревоги и боли в ее лирику. Анну, наполненную тоской и ужасом, ее «смуглая Муза» не лишила голоса. Лишь бы только возобновили работу издательства.
С началом НЭПа издательская нива оживилась. Ожила и Анна. Весной 1921 года вышел сборник ее стихотворений «Подорожник» тиражом в тысячу экземпляров. Стопки белых книг красовались на подоконнике. Одна — распакованная — прямо на столе вместо букета цветов.
— А ты умничка, Анюшечка, хоть денег за эти книжки и на колбасу приличную не хватит. Наскреб последние на «собачью радость».
— Возьми, купи себе, что захочется. — Она бросила кошелек на стол.
— Вот мы и литературой кормимся. — Шилей стал пересчитывать бумажки. — Я много не возьму — на пропитание. — В последние месяцы он стал говорить с юродствующими интонациями. — Рассуждаю так, что Блоку твоему поболе отваливают за добрую службу. Ведь он как старается: русскую революцию приветствует, в комиссии по расследованию преступлений царского (заметь!) правительства работает, и еще написал поэму «Двенадцать»! Прорвало гения.
— Гнусная эпитафия. И себе, и своим героям, да и заказчикам. — Анна ушла на кухню и вернулась с графином воды. — Кипяточку согрей, зябко.