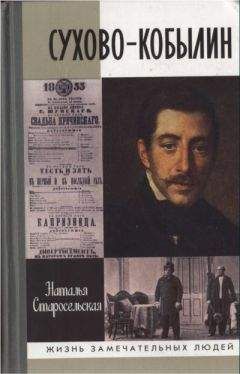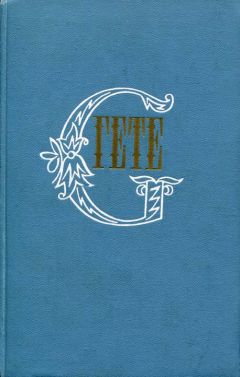Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
— Простите, господин цензор, вы, вероятно, ошибаетесь, в моей пиэссе действуют отдельные и незначительные чиновники, да к тому же фигуры в некотором роде фантастические.
— Фантастические? Да кто же не поймет, что это министерство, министр, его товарищ, правитель дел?
«Он заметил это с желчью, — записал потом Александр Васильевич в дневнике. — Дело мое потерянное, я вышел разбитый. Пропало… Всё выметено. Я расстроен. У меня всё перевернулось, все планы. Хочу уехать отсюда. Продать всё. Поселиться в Гайросе — и там пристроиться, как будет можно».
В сущности, старший чиновник особых поручений Третьего отделения, цензор драматических произведений Иван Андреевич Нордштрем был первым и самым проницательным критиком пьесы. В служебном рапорте он дал ей сжатые, точные и яркие оценки, до которых при жизни драматурга, да и долгое время после его смерти, не поднялся ни один рецензент:
«Недальновидность и непонимание своих обязанностей в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых затем зависит направление и решение дел; несовершенство наших законов, сравниваемых в пьесе с капканами, полная безответственность судей за мнения и решения — всё это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое тяжелое впечатление».
Обер-прокурор Лебедев однажды отметил в своих «Записках»:
«Я читал Чичикова, или “Мертвые души” Гоголя. По содержанию и связи повести или поэмы это вздор, сущий вздор, небылица… Верно, умно. Но нельзя не заметить скрытой мысли автора: он пародирует современный порядок, современный класс чиновничий, но не совсем прав и местами немного дерзок. К сожалению, подобные пародеры мало знают наше управление и еще меньше причины его недостатков».
Что ж, титулярному советнику Николаю Васильевичу Гоголю не представилось случая лично столкнуться с департаментом статского советника Кастора Никифоровича Лебедева и вникнуть в «причины его недостатков». Но вот явился другой титулярный советник, другой «пародер» — «литературный сын и наследник Гоголя», как называл Сухово-Кобылина Амфитеатров. И уж он-то, волею судьбы, до тонкостей постиг механизм чиновничьей машины, классифицировал в «Деле» все виды чиновничьих взяток — от «сельской» и «промышленной» до «уголовной» и «капканной», выписал дерзким пером всю иерархию чиновничьей России — от «ничтожеств» и «не лиц» вроде стряпчего Троицкого до важных лиц вроде обер-прокурора Лебедева и «весьма важных лиц» вроде графа Панина. В чертах князя из драмы «Дело» невозможно было не узнать министра юстиции — была одна интимная подробность, которая безошибочно указывала на Панина: у его светлости из «Дела» были геморрой и несварение желудка, и потому, если проситель попадал ему под руку «в содовую», то есть в то время, когда сбой давал желудок, дело его было безнадежным (князь даже пытался увязывать эти процедуры — «на вечер принять соды, а поутру просителя»). Его сиятельство тоже страдал расстройством пищеварения, и производство дел в Министерстве юстиции находилось в прямой зависимости от работы панинского желудка. Даже те из подчиненных, которые с благоговением вспоминали о своем начальнике, не могли умолчать об этой его особенности. «Все поступки и решения Панина, — свидетельствовал Семенов, — определялись тем, в каком состоянии его пищеварение». Так что новый «пародер», восполнив «упущения» Гоголя, проник даже в такую скрытую механику «высшего управления».
«Закон в деле, а дело — канцелярская тайна», — писал Кастор Никифорович, полагая, что только ему ведомы заветные чиновничьи тайны, что только ему известно, что «закон в руках чиновников, а чиновники и лично, и по содержанию не имеют никакого достоинства, лично — потому что малообразованны и слишком велика зависимость их дел от высших и общественного мнения; по содержанию — потому что его мало и пополняется оно взятками».
Любого возьмите: получает он от царя тысячу, проживает пять, да еще нажить хочет.
«Дело», действие третье, явление IВедь в полпивную не пойдешь; обедать — все-таки у Палкина[28], да мне другой раз на перчатки три целковых надо; выходит — петля! <…> Только бы мне вот Силу да Случай, да я таким бы взяточником стал, что с мертвого снял бы шкуру; право бы снял — потому нужда!
«Дело», действие второе, явление IVОбедал Кастор Никифорович не в «полпивной», как называли заведение, торгующее легким пивом, — «Сила и Случай» у прокурора были.
Отношения Сухово-Кобылина с цензурой по поводу его третьей пьесы были особыми. Цензоры отказывались даже принимать ее для рассмотрения. Резолюция министра внутренних дел Петра Валуева — «Сплошная революция» — уничтожала всякую надежду на постановку этой «комедии-шутки». Александр Васильевич десятки раз переписывал ее, исправлял, изменял отдельные сцены — но всё безрезультатно. Цензоры не желали вникать в его исправления, и всякий раз, когда он приносил пьесу, ему с порога заявляли, что разрешения на ее постановку не будет.
Сменялись цари, министры, начальники цензурного ведомства — «Смерть Тарелкина» оставалась под запретом. «Озлобление цензуры на нее большое, — писал Сухово-Кобылин в 1892 году актеру Александрийского театра Владимиру Давыдову, — она обречена на вечный запрет — то есть для меня вечный, ибо мне 74 года. Скоро умирать. Прошу Вас: помогите. Весь цензурный совет против — обращение к министру единственный исход; и мне надо — надо — успех».
Александр Васильевич пускал в ход все свои связи, чтобы передать пьесу на рассмотрение непосредственно тогдашнему министру внутренних дел Ивану Николаевичу Дурново. Одно за другим он устраивал публичные чтения «Смерти Тарелкина», на которые приглашал влиятельных лиц: камергера и редактора газеты «Гражданин» князя Владимира Мещерского, имевшего доступ к министру, журналистов, литераторов, министерских чиновников. «Я веду борьбу насмерть с цензурой, которая объявила, что она никогда не согласится пропустить третью пиэссу, — писал он сестре Евдокии из Петербурга. — Для меня составляет большую важность, чтобы вытащить мою пиэссу на сцену. Ей здесь было три публичных чтения, и она едет всё в гору. Последнее чтение (в редакции «Гражданина». — В. О) было самое удачное и можно назвать успехом. Вся задержка от цензуры. Что скажет министр, к которому я обратился с довольно резкой просьбой».
Министр Дурново, которому князь Мещерский передал пьесу с запиской Сухово-Кобылина, сказал — нет. «Пока я жив, — заявил он, — эта пьеса не будет идти ни в одном театре России!»