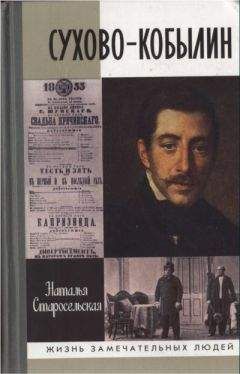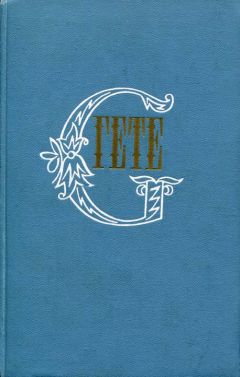Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
Бывали даже случаи, когда знакомые актеры и режиссеры уговаривали его: напишите, Александр Васильевич, какую-нибудь пьесу из современной жизни, да поострее, порезче, вам же ничего не стоит, у вас золотое перо. Но он только махал рукой:
— Нет, куда мне… Я старик, отстал от века и совсем не знаю новых людей.
Но дело конечно же было не в старости, не в отсталости и не в утрате «свежести». Судьба одарила его могучим здоровьем, свежестью и ясностью ума, сохраняемыми до гроба. Как деятельный промышленник он не только не отставал, но опережал свой век; работая беспрестанно, сталкивался со множеством людей, хорошо знал нравы и образ жизни помещиков, крестьян, мастеровых, купцов, чиновников, откупщиков, конторщиков, фабрикантов.
Дело было в другом. В том, о чем он говорил только близким. Его друг помещик Ергольский писал:
«Александр Васильевич признавался, что каждый его литературный труд, каждая постановка пьесы были сопряжены с более или менее тяжелым ударом или утратой кого-либо из близких сердцу людей. Александр Васильевич боялся этой мистически-страшной связи, в которую положительно уверовал».
И это действительно так. В хронологии его творчества на каждую значительную дату — замысел, начало писания, завершение, цензурное разрешение, публикация, постановка — приходится смерть, трагедия, горе, утрата. Мистика, мистика… Нет, разумеется, ничего «мистически-страшного» не видится в этой судьбе, если смотреть на нее с расстояния времени, с той упоительной для беллетриста точки, с которой видны, словно бледные ленты дорог с вершины, все изгибы и петли далеких трагедий, с которой случайное выглядит неизбежным, непостижимое — должным и ясным, с которой легко водить указкой сюжета по проторенным тропам судьбы. Но почему эти тропы сплелись в такие зловещие узоры? Кто и для чего закрутил эти немыслимые петли? На это беллетрист ничего не ответит. Он видит картину чужой судьбы и околдован ее завершенностью; его не устрашают ни эти узоры, ни эти петли — они явились ему разом, без той коварной постепенности, которая тянет жилы у путника, не знающего, куда повернет дорога. И там, на этой дороге пусть устрашают героя «мистически-страшные связи»: он ведь слепец на своих путях, и каждый последующий шаг его — тайна. Но так ли? Так ли был слеп герой? И не его ли прозрениями будет жив любой беллетрист, взявшийся описывать жизнь и дело Кобылина? Не самому ли герою дано было чувствовать странность своей судьбы, видеть ее манеру и почерк? Мистика, мистика. Или, может быть, чувство судьбы, обостренное до предела. У него это чувство не могло быть ослабленным, ибо самое поразительное в его, без сомнения, странной судьбе было то, что слишком явной была эта странность, слишком ощутимыми были «связи», и он их не мог не постигнуть. И постиг так хорошо, что уже не решался с былой безоглядностью продолжать эту неравную игру — платить утратами и бедами за «так называемые литературные произведения», за успех, за почет, за овации. И вот философия стала его излюбленным занятием.
Начиная с 1860-х годов он 30 лет изо дня в день трудился над философскими трактатами. Он первым в России перевел на русский язык все труды Гегеля, написал к ним обширные предисловия и послесловия, составил подробные комментарии и примечания. Его собственный философский труд (огромного объема, в несколько тысяч густо исписанных листов) «развивал и продолжал» учение Гегеля.
— Вот этот шкап, — говорил он Юрию Беляеву, показывая ему свой кабинет в Кобылинке, — полон моими философскими трактатами. Я ведь гегельянец и кроме Гегеля и Гераклита другой философии не признаю.
В эти годы он читал философские книги с тем же самозабвением, с каким возводил свои заводы. Книг у него было огромное количество. Тульский семинарист Ардашев, приехавший однажды в Кобылинку, чтобы наняться к Александру Васильевичу переписчиком его трудов, вспоминал: «Рядом с кабинетом была довольно обширная комната, вся заставленная шкапами, полными книг. Книги помещались и на особо устроенных полках, закрытых от пыли шторами. Такая масса книг в доме частного человека меня поразила… Они почти все были на иностранных языках, и я с трудом, и то лишь у некоторых, улавливал их названия. Большинство попадавшихся на глаза было по философии и естественным наукам».
Потом, когда и эти книги, и шкаф с трактатами, и вся усадьба сгорят, кобылинская горничная Наталья Богачкина будет рассказывать:
— От книг пожар был. Страшно много у него было книг. В пожар листов от книг летело по дерев-не — ужас!
Рукопись философского труда Сухово-КобылинаВ декабре 1888 года, ровно за год до этого страшного пожара, он возил в Петербург свои философские сочинения. В поезде он ехал в одном купе со студентом Петровско-Разумовской земледельческой академии Константином Ходневым и каким-то отставным профессором. Старому профессору показалось знакомым его лицо — видел в литературной ложе на одном из первых представлений «Свадьбы Кречинского». Он шепнул на ухо студенту: «Кажется, это Сухово-Кобылин!» А потом обратился к Александру Васильевичу:
— Прошу прощения, не литератор ли вы?
— Да, я немного писал, — удивленно ответил Александр Васильевич.
— Вы автор «Свадьбы Кречинского»! — восторженно воскликнул студент.
Александр Васильевич спокойно ответил:
— Ну да, когда-то я написал такую комедию… Только это всё пустяки, молодой человек. Если вы думаете, что я и поныне отношусь к разряду тех людей, которых вы почтительно называете литераторами, то вы ошибаетесь. Я занимаюсь вещами куда более серьезными.
— Чем же, позвольте вас спросить? — вмешался профессор.
— Я в течение пятидесяти одного года обрабатываю философскую систему, которую окончил излагать письменно и теперь везу с собой в Петербург. Хочу напечатать.
Собеседники засыпали его вопросами о трактате, и Александр Васильевич, польщенный вниманием к своим философским трудам, оживился:
— Конечно, я говорю в своем сочинении и о религии, и о культуре и не поступлюсь ни единым словом из написанного! Всякое исключение, как вы сами понимаете, нарушит цельность труда, да и можно предположить, что за пятьдесят лет мышления я не собираюсь публиковать легкомысленные вещи. Однако если всё сочинение целиком нельзя будет напечатать, я его вовсе не обнародую!
В Петербурге все издательства и журналы, которые он обошел, отказались печатать его философские труды. За несколько недель до пожара в усадьбе у него еще была возможность опубликовать часть своих философских писаний, согласившись на некоторые изъятия из текста. Редактор журнала «Русское обозрение», встретившись с Евгением Салиасом, поручил ему попросить у Сухово-Кобыли-на философскую статью для журнала. Узнав об этом, Александр Васильевич очень обрадовался. Тут же подготовил текст к печати и отдал в журнал один из своих трудов — «Введение в спекулятивную философию». Но через несколько дней ему пришлось забрать рукопись. «Редактор, продержавший у себя манускрипт, — объяснял он своему другу Антону Александрову, — неожиданно для меня потребовал Выпусков, урезок и проч., плохо мотивированных. Очевидно, это был предлог, чтобы статью не печатать; я не согласился, и дело не состоялось. Это второй отказ прессы поместить мои труды. Думаю так: довольно! Составлю теперь сокращенное изложение (один том) моих Спекуляций, чтобы перевести его по-немецки, — для чего и хочу поехать в Лейпциг искать хорошего стилиста».