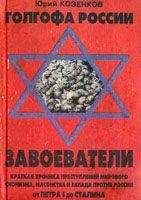Томас Манн - Путь на Волшебную гору
«Как жить в семьдесят лет тому, кто в двадцать написал Вертера!» — воскликнул он однажды, и его жизненное гражданство ставится под сильное сомнение, когда позднее, в стихотворении, посвященном герою своего юношеского романа, он следующим образом обращается к оплакиваемой тени:
Остался я, а ты своей дорогой
Пошел вперед и потерял не много.
Он боялся этой маленькой книжки, полной сокрушающей чувствительности, книжки, некогда открывшей миру безумное блаженство смерти, и сознавался в старости, что один только раз перечитал ее после выхода в свет и с тех пор остерегался брать в руки. «Ведь там что ни слово, то зажигательная ракета, — говорит он. — Мне становится не по себе, и я боюсь вновь впасть вто патологическое состояние, которое породило эту книгу». В зрелые годы он теоретически настаивает на том, что искусство должно давать лишь здоровое и жизнеутверждающее, и порицает то, что он называет современной, злоупотребляющей искусством, «лазаретной поэзией», противопоставляя ей тиртейскую, поющую не только военные песни, но и вооружающую человека мужеством для жизненных битв. Но следовал ли он этому принципу практически? Во всяком случае, не в «Вертере», и странно, что певец гармонии, тиртейски призывающий нас жить вопреки всем невзгодам, выбирает для себя подобную тему и облекает свое самое сокровенное в судьбу современника, кончающего сумасшедшим домом и монастырем. Ведь в области морали жизненная гражданственность требует сугубой добродетели, безусловного утверждения нравственного, ибо благоразумие и нравственность — столпы жизни. Он же весьма не по — бюргерски отстаивает страсть, то, что люди называют «экзальтацией и болезненностью», он утверждает, что экзальтация и болезнь — также естественные состояния и что «так называемое здоровье» может заключаться лишь в равновесии противодействующих сил. Он не согласен со своим фамулусом, утверждающим, что произведения Байрона вряд ли что могут дать для воспитания чистой человечности, — его мораль будто бы слишком проблематична. «Отчего же? — возражает Гёте. — Смелость, дерзость и грандиозность Байрона — разве все это не имеет воспитательного значения? Нельзя искать воспитательное только в безусловно чистом и нравственном. Все великое воспитывает нас, как только мы познаем его!» На мой взгляд, это сказано отнюдь не по — бюргерски, и, быть может, самая небюргерская фраза, когда‑либо слетевшая с его уст, гласит: «Французы педанты, ибо они скованы формой». Прислушайтесь к этому хорошенько! В этом своеобразном принижении формы через слово «педанты» заложено утверждение хаотического, тяготение к смерти, которое именно французы постоянно ставцли в упрек немецкой натуре. Жорж Клемансо, чья политическая вражда ко всему немецкому находила продолжение и в духовной сфере, обладая всем психологическим чутьем своей расы, сказал: «Немцы любят смерть. Посмотрите на их литературу, в сущности они только ее и любят». Приведенное мною изречение Гёте — сугубо немецкое и в то же время сугубо небюргерское.
Несмотря на все это, по — видимому, достаточно быть художником, творцом, каким был Гёте, чтобы любить жизнь и хранить ей верность. Его жизнелюбие сказывается прежде всего в том, что, несмотря на отрицание политики и связанный с этим охранительский образ мыслей, в нем не заметно ни малейшего следа реакционности. Многогранность его натуры, ее бесконечный дилетантизм давали и дают повод апеллировать к его авторитету, использовать его имя в интересах самых различных идеологий; невозможно лишь одно: поставить его на службу какой бы то ни было духовной реакции. Он не был «князем полуночи», Меттернихом[91], который насиловал жизнь из гнусного страха перед будущим. Он любил порядок, но считал, что служить ему должны разум и свет, а не глупость и темнота. «Мелкие людишки, — говорит он в «Вильгельме Мейстере», — больше всего на свете страшатся разума; понимай они, что действительно страшно, они боялись бы глупости. Но разум им мешает, и его надо устранить; глупость же только губительна, а когда еще гибель наступит…» Мало известен или охотно предается забвению тот факт, что в 1794 году, когда барон фон Гагерн выпустил воззвание, в котором призывал немецкую интеллигенцию, и в особенности Гёте, отдать свое перо служению «благому», то есть консервативному, делу, а по существу — служению новому союзу немецких князей, предназначенному спасти страну от анархии, — что тогда так называемый княжеский холоп, вежливо поблагодарив за оказанное доверие, заявил, что считает невозможным объединить князей и писателей для совместной деятельности. Он ежечасно давал отпор реакционерам в искусстве и всяческим мракобесам и осуждал получивший в то время широкое распространение архаизирующий стиль в живописи. Он — борец за все свободное и сильное в искусстве, он восторгается Мольером за то, что тот бичевал пороки, рисуя людей такими, какие они есть, и он охотно запретил бы молодым девушкам посещать театры, чтобы на сцене без стеснения можно было показывать жизнь так, как ее и следует показывать вполне взрослым мужчинам и женщинам.
То, что, несмотря на все нападки, которым он подвергался и гнусность которых сейчас трудно себе представить, он обращался ко всей нации как писатель национальный, в более поздние годы, естественно, составило основу его самосознания, — самосознания, не даваемого от рождения ни одной человеческой душе, но с которым творческая личность постепенно свыкается, как с судьбой. Отпрыск бюргерского семейства, мальчиком сидевший когда‑то за столом с рисовальными или письменными принадлежностями у себя в мансарде, на Хиршграбене, во Франкфурте, достигнув семидесяти лет, делает человечески трогательное признание, что «ему трудно было научиться величию», — величию, состоящему в том, чтобы в межнациональном, эпохальном видеть достойный объект своей деятельности. Но не только этому научился он. Стремление охватить весь мир, понятное в писателе, чей творческий путь начался со столь многознаменательного успеха, как «Вертер», другими словами, убеждение, что поэзия — всеобщее достояние человечества и что именно для нас, немцев, важно выйти из узкого круга собственной ограниченности, чтобы не впасть в педантичное чванство, индивидуальное и национальное, все усиливается в нем к старости. «Вместо того чтобы замыкаться в себе, — учит он, — немец должен принять в себя весь мир, чтобы воздействовать на мир… Вот почему, — добавляет он, — я охотно вникаю в жизнь и культуру чужих народов и каждому советую делать то же самое. Национальная литература теперь немногого стоит, близится эпоха мировой литературы, и каждый должен содействовать ее скорейшему приходу». Он впервые произносит эти слова — «мировая литература», и они звучат у него наполовину как факт, наполовину как требование, предъявляемое будущему. Разумеется, мировая литература для него не просто мертвый итог всей письменно зафиксированной духовной жизни человечества, но та вершина, тот цвет письменности, к которому давно уже принадлежало его собственное творчество и который повсюду, где бы он ни расцвел, рассматривается и признается как достояние всего человечества благодаря своей всеобщей значимости, причем это подкрепляется сознанием, что настала пора, когда только всемирно достойное стоит на повестке дня и заслуживает внимания, а все, что имело значение лишь в собственной сфере возникновения, отжило свой век. И действительно, все, что создавал он сам, уже при его жизни воспринималось и признавалось как мировая литература, причем не только те его творения, которые возникли под влиянием средиземноморской культуры и отмечены печатью гуманистически — классического духа, но и типично северонемецкие, такие, как первая часть «Фауста» и воспитательный роман «Вильгельм Мейстер». Великий старец имеет удовольствие получить от шотландца Томаса Карлейля английский перевод этой книги с письмом, полным детски — глубокой любви и преданности. Он перелистывает французское издание «Фауста», украшенное рисунками Эжена Делакруа. В журналах Эдинбурга, Парижа и Москвы он читает торжественные рецензии на недавно опубликованный эпизод с Еленой из второй части трагедии; и здесь вполне уместно говорить об удовлетворении, ибо мировой резонанс, который имело его творчество, должен был послужить ему вознаграждением за ту злобную недооценку его труда, в которой не было недостатка у него на родине. «Ни одна нация, — говорит он, — не имеет права судить о том, что совершается и пишется у нее. Это верно и в отношении каждой эпохи». Один остроумный француз выразил ту же мысль более лаконично: «L’etranger, cette posterite contemporaine»[92].