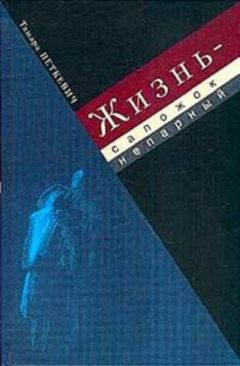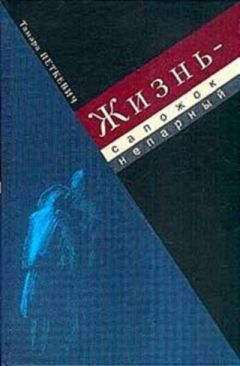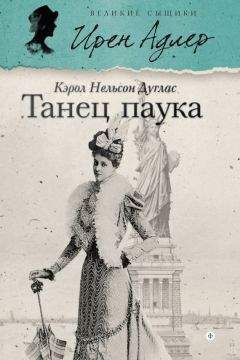Тамара Карсавина - Театральная улица
Русский сезон, словно порыв свежего ветра, пронесся над французской сценой с ее устаревшей условностью. «La danse nous revient du nord», («Танец вернулся к нам с севера») – заявлял другой критик.
Я иногда спрашиваю себя, гордился ли собой Дягилев в свои счастливые часы – ведь ему удалось объединить целое созвездие талантов – сам Шаляпин, Бенуа (мэтр), Бакст (Ie bateau de la saison russe), (Корабль Русского сезона) имя которого было у всех на устах, его чопорность денди, пунктуальность и неизменное добродушие резко контрастировали с яростным хаосом наших репетиций. Фокин кричал до хрипоты, рвал на себе волосы и творил чудеса. Павлова мимолетным видением мелькнула среди нас и уехала, выступив в паре спектаклей; муза Парнаса – так назвал ее Жан Луи Водуайе. Наиболее виртуозная из всех современных балерин Гельцер тоже была среди нас, ею восхищались почитатели академического искусства. Дух экзотики нашел свое наивысшее воплощение в Иде Рубинштейн и в ее незабываемой Клеопатре. Перечисление может показаться скучным; и все же я должна добавить еще имя Нижинский – целые тома книг не могут сказать больше, чем одно это имя. Была какая-то забавная нежность в том, как французы произносили фамилии Федорова, Фокина, Шоллар; сама интонация, казалось, выражала восхищение.
Наш парижский сезон закончился празднеством под открытым небом, устроенным в нашу честь мадам Морис Эфрюсси. Перед отъездом из Парижа я всего лишь раз увидела Дягилева, но он ни словом не обмолвился о своих планах. Мне в голову тогда еще не приходили мысли о нашем будущем, о долгом и тесном сотрудничестве, и все же этот первый сезон скрепил нашу совместную работу. Значительно позже, когда предвоенные годы отошли в далекое прошлое, мы любили возвращаться в памяти к маленьким происшествиям того времени. Дягилев мастерски рассказывал случай, который назвал манифестацией vertu farouche (Неприступная добродетель) Таты. В какой ресторан повел меня в тот вечер поужинать Дягилев, не помню, все они казались мне настолько шикарными, что приводили меня в замешательство. Нам предстояло встретиться с одним влиятельным режиссером, поставлявшим смешные материалы для парижских анекдотов, клоуном, но в то же время человеком, обладающим глубокой проницательностью в делах сцены. До сих пор не могу понять, за кого он меня принимал. То, как он разговаривал со мной за столом, показалось бы мне совершенно невероятным, если бы не его фиглярство, заставившее меня считать, будто его реплики не имеют личного характера. Остроумные реплики Дягилева переключали его в другое русло. Инцидент произошел, когда мы вставали из-за стола. Дягилев так потом описывал этот момент: «Можете себе представить мой ужас, когда Г. ущипнул Тату и она с пронзительным криком плюхнулась на стул. Она отказывалась вставать до тех пор, пока я не убедил ее принять мою руку. О том, что происходило потом, может поведать Нувель. Ему пришлось возить ее по улицам до тех пор, пока кризис не отступил. Он проехал много миль, прежде чем ему удалось убедить ее в том, что ее добродетель осталась незапятнанной».
Подобно разборчивой девице из русской сказки, которая никак не могла выбрать себе мужа, я оказалась перед дилеммой: театральные агенты постоянно обращались ко мне с предложениями. В Америку я ехать не хотела: боязнь морской болезни вычеркнула ее из моего списка. Против Австралии я испытывала предубеждение из-за каких-то туманных, но тревожных фраз, вычитанных из учебника географии. Лондон же был близко и казался чрезвычайно привлекательным – в школе я так любила Диккенса! Я подписала контракт в Лондон, где выступления должны были начаться сразу же вслед за парижским сезоном, но не потрудилась подписать печатное приложение, показавшееся мне слишком длинным. Вскоре я поняла, насколько благоразумнее было бы изучить приложение, называвшееся «типовой контракт». Во всех трудных делах практического свойства я обращалась за помощью к барону Гинзбургу, знавшему меня с детства. В те дни он, интересуясь Русским сезоном, был в Париже и, как мне кажется, делал все от него зависящее для достижения успеха.
– Вы поступили опрометчиво, – сказал он. – Возможно, продали себя в рабство.
Встревоженная, я стала читать параграф за параграфом этот длинный типовой контракт, а Гинзбург объяснял мне их смысл. Оказалось, что я на много лет теряла право принимать какие-либо предложения, кроме поступающих от моего нынешнего импресарио. Я отправилась к нему вместе с Гинзбургом. Ко мне пришел Онегин, и мы взяли его с собой. В приемной сидело много посетителей. Меня тронуло покорное и смиренное настроение всех этих девушек; никто из них не запротестовал, когда меня и моих спутников пригласили пройти без очереди.
Проинструктированная Гинзбургом, я выразила решительный протест против того, что назвала захватом людей в рабство. Импресарио Маринелли, маленький человечек с галантными манерами, разорвал оскорбительный документ со словами: «N'en parlons plus, madame». («Не будем больше об атом говорить, мадам») Mы принялись обсуждать условия моего контракта, и импресарио заявил, что намерен сам сопровождать свою звезду.
Глава 20
Первое посещение Лондона. – Первые впечатления. – «Колизей». – Аделина Жене. – Подкуп. – Первые английские друзья
Я не знала ни единой души в Англии и не понимала ни слова по-английски, когда Маринелли привез меня в Лондон в воскресенье и поселил в отеле на Лестер-сквер.
Кому не знакомо это странное чувство: ощущение пустоты в том месте, где должно находиться сердце, и постоянная внутренняя дрожь, точное место которой невозможно определить?
– Сделайте глубокий вдох, чтобы ослабло давление на солнечное сплетение, – посоветовал мне однажды доктор.
Но в те давние дни у меня была одна панацея от всех бед: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» В Петербурге мы танцевали два раза в неделю, все остальное время проводили тщательно и добросовестно готовясь к спектаклям. После этого мысль о двух представлениях в день, после одной короткой репетиции в первое утро, привела меня в ужас.
Маринелли, опрятный и щеголеватый, стоял рядом со мной на сцене. Репетиция еще не началась, артисты распаковывали свои чемоданы, извлекая оттуда свой затейливый реквизит. Рабочие сцены расставляли богато украшенную мебель, гордость «Колизея», известную как «гарнитур Леви». Маринелли расхваливал красоту и декоративное убранство зала, утверждая, будто другого такого театра, как «Колизей», невозможно сыскать. Я же слушала его рассеянно, так как ощущала сильный сквозняк, к тому же мое внимание привлекли доски пола, и размышляла, удастся ли мне избежать всех этих медных дощечек с номерами. Я нервничала и волновалась, мне казалось, будто никто ни о чем не заботится и обо мне забыли. Участники различных номеров выходили на сцену и, засунув руки в карманы, расхаживали по ней, пока оркестр исполнял нужную мелодию. Наступила пауза – очевидно, кого-то не оказалось на месте. Позвали Ramases, и вскоре прибежал крошечный человечек в вельветовом пиджаке. Мой черед наступил лишь в конце репетиции, но что-то пошло не так: музыканты путались в нотах, дирижер сидел с трагическим и отсутствующим видом. Маринелли объяснил, что в моей партитуре не хватает многих частей. Еще в Париже я доверила подобрать ноты нашему курьеру Михаилу. До сих пор не знаю, как нам удалось выйти из положения – то ли неполадки с нотами оказались не столь ужасными, как показалось с первого взгляда, то ли заботливые служащие «Колизея» успели вовремя сделать копии недостающих частей, но к дневному спектаклю все было в порядке. Я испытывала чувство горячей благодарности к мистеру Дову, который помог мне преодолеть все трудности. Музыка, исполнявшаяся на этом первом дневном спектакле, даже напоминала Чайковского, своего автора.