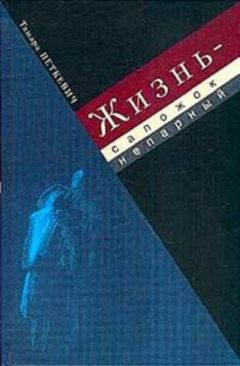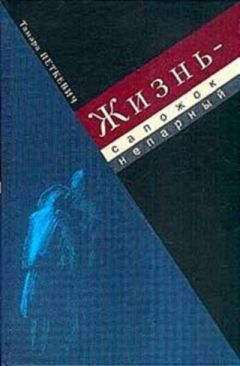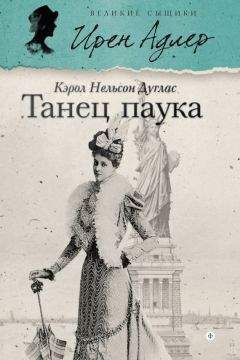Тамара Карсавина - Театральная улица
– Повсюду грязь, пыль, и вы, бедное дитя, тоже перепачканная, едите на этих грязных досках.
Политический эмигрант, суровый и неприветливый старик, представлял собой весьма примечательную личность. Я привезла с собой адресованное ему рекомендательное письмо от одного из своих родственников, но в суматохе первых дней совсем о нем забыла. Предупрежденный о моем приезде старик сам пришел в «Шатле», чтобы разыскать меня.
Он не имел ничего общего с тем образом «симпатичного старичка», который я себе нарисовала. Довольно раздражительный, всегда готовый на уничтожающие замечания – таково было мое первое впечатление. После первой же встречи он предъявил на меня свои права. Он каждый день приходил в «Шатле», провожал меня в отель и садился поболтать.
– Твой поклонник пришел, Тата, – поддразнивал меня Дягилев.
Я привыкла к Онегину, как к собственной тени. Так началась наша странная дружба с его едкими замечаниями и моими дерзкими ответами. Все, что бы я ни делала, было неправильно; и все же за его сарказмом таилась тщательно скрываемая симпатия ко мне, вызванная, по-видимому, присущим мне в те дни простодушием.
– Спрячьте же свою штопку, идет горничная, несет вам шоколад.
– А что плохого в том, что я штопаю чулки?
– Вы звезда, и вам не подобает заниматься подобной ерундой. – И тут он мягко добавил: – Как вам удается оставаться настолько неизбалованной?
Онегин жил в крошечной квартирке нижнего этажа на рю де Мариньан.
– Здесь ничего нельзя трогать, – такими словами встретил он меня у порога и стал показывать мне свою пушкиниану: портреты, посмертную маску поэта; великолепные издания его произведений, портрет Смирновой, которой поэт посвятил одно из своих прекраснейших стихотворений. Радуясь представившейся возможности блеснуть своими познаниями, я поспешно протараторила сонет, Онегин вежливо кивал в такт звучному ритму стихов.
– Умница! Никогда бы не подумал, что вы знаете его наизусть.
Мрачный, жалкий, одинокий, пользующийся репутацией скряги, он позволял себе есть только раз в день. В любое время года и в любую погоду Онегин ходил обедать в «Кафе де Пари», он всегда оставлял несколько кусочков сахара, подаваемых к кофе, и кормил ими лошадей. Все остальное время в окне его квартиры виднелся его склоненный над столом силуэт – он постоянно ждал посетителей, которые придут посмотреть его музей, но к нему приходили очень редко.
Проводя дни в лихорадочной суматохе, в ссорах, вспыхивавших среди артистов, музыкантов и режиссеров, мы наконец приблизились ко дню генеральной репетиции, а в сущности – парижской премьеры. Сливки общества, литераторы, художники и критики должны были решить, что нас ждет – успех или провал. По прошествии времени я с улыбкой вспоминаю неописуемую сумятицу тех дней: опера и балет постоянно оспаривали друг у друга право на сцену, Дягилев был третейским судьей. Побежденная сторона, собрав свои пожитки, с возмущением удалялась в отдаленные уголки театра. Под раскаленной крышей, где было впору разводить саламандр, мы репетировали часами. Чем ближе приближался день премьеры, тем невероятнее казалось, что из этого хаоса может возникнуть цельный спектакль. Наибольшие трудности представляла собой «Армида»: невозможно было научить статистов двигаться в такт музыке; крышку люка все время заедало, словно волшебный гобелен действительно демонстрировал свои сверхъестественные свойства. Фокин худел с каждым днем.
Пользуясь любой паузой в репетиции, мы с Нижинским бежали в глубину сцены и отрабатывали там пируэты. «Генерал» стоял рядом и одобрительно кивал. Ведь нас сопровождала в Париж целая свита. С нами приехали Светлов, историк этого нового этапа балета, наш верный летописец; несколько балетоманов, завсегдатаев партера, как бы составляли фон, и почтенный генерал Безобразов, главный арбитр техники танца. Как на купеческой свадьбе, которой можно было гордиться только в том случае, если на ней присутствовал нанятый генерал, обязанностью которого было вести невесту к алтарю, так и среди нас присутствовало лицо, занимающее высокий пост, чтобы морально поддержать в не менее важный момент нашей жизни. Номинально он считался советником по вопросам классического балета, но фактически служил «сановником напоказ», в лице Безобразова Дягилев всего лишь отдавал дань традиции.
Несмотря на постоянные столкновения, взрывы гнева и ссоры, вся труппа, включая обслуживающий персонал, работала как один человек. Вспышки раздражения были вполне объяснимы среди людей, терпение которых постоянно подвергалось столь тяжелому испытанию; вскоре никто не обращал на них внимания – «они просто спорят».
Казалось, в воздухе веяли явные признаки успеха; интерес был пробужден. Газеты сообщали ожидающей новостей публике об изумительной выносливости русских актеров. Детома постоянно рисовал Нижинского, почти в каждой возможной позе во время его экзерсиса. Робер Брюссель писал обо мне в «Фигаро»: «Les hymnes orphiques L'auraient jadis celebree entre Ie «parfum des images» qui est la myrrhe et Ie «parfum d'Aphrodite» qui n'a point de nom…» («Орфические гимны воспели бы ее в те стародавние времена как «небесный аромат», который называется мирром, или как «благовония Афродиты», которые вообще не имеют имени») «Elle semble ne flechir que sous Ie poids des graces ineffables». («Кажется, будто она движется лишь по мановению какой-то неземной блтодати») «He верьте – это обычная французская лесть», – заявил Онегин. А над всем этим парил Дягилев, возвышаясь над ареопагом своих сателлитов.
В первый вечер мы давали «Князя Игоря», «Павильон Армиды» и несколько танцев, объединенных под названием «Пир». Уже много написано о нашем сезоне в Париже и о памятном первом вечере. Было бы бесполезно с моей стороны пытаться соперничать с литераторами, описывая это эпохальное событие. Они писали о том, что видели, я же не была зрительницей, а участвовала в создании этого и поэтому видела все с другой стороны сквозь призму собственного опыта.
Мне показалось, что довольно спокойное одобрение публики переросло в бурный восторг где-то в середине pas de trois, которое исполняли Нижинский, его сестра и я. Первая медленная часть, словно постепенно подводившая к кульминации высшей виртуозности, вызвала одобрительный шепот, волной пробежавший по залу. Затем Нижинский предпринял эффектный ход. Он должен был, оставив трио, уйти со сцены, чтобы снова появиться в сольной вариации. В тот вечер он решил совершить прыжок; он взлетел в нескольких ярдах от кулис и, описав в воздухе параболу, скрылся из виду. Никто из зрителей не видел, как он приземлился, для всех он взмыл в воздух и улетел. Раздался гром аплодисментов, оркестру пришлось прекратить игру. Возможно, эта находка Нижинского стала источником подобного же эффекта – знаменитого прыжка в окно в «Призраке розы». Вся сдержанность была отброшена, и залом овладел неистовый восторг. После моего соло оркестр опять вынужден был остановиться. По окончании танцев из «Князя Игоря», где невероятного успеха добился Больм, занавес поднимался бессчетное число раз.