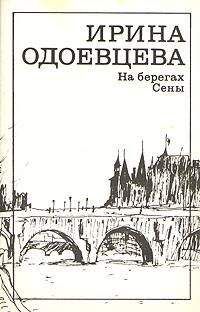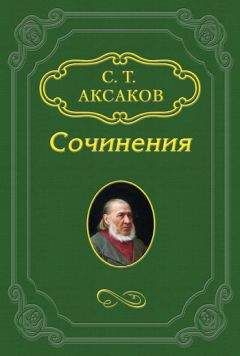Ирина Одоевцева - На берегах Сены.
Так буднично и тускло тянулась для нее жизнь в Варшаве, ничем не напоминая волшебные годы, проведенные в Болгарии.
И вдруг все переменилось. Умерла сестра отца Георгия Иванова — княгиня Багратион-Мухранская — и оставила ему по завещанию все свое огромное состояние. Ему одному, хотя, кроме него, у нее были еще три брата.
О намерении сделать любимого брата своим единственным наследником она никому не сообщала, и вскрытие завещания у нотариуса произвело впечатление взорвавшейся бомбы. Братья потребовали раздела наследства. Но об этом мать Георгия Иванова и слушать не хотела, заявив им, что воля умершего священна и нарушать ее смертный грех. Произошел скандал, окончившийся разрывом.
Отцу Георгия Иванова, пораженному смертью любимой сестры, это с неба свалившееся богатство, да еще вызвавшее ненависть братьев, не принесло радости. Скорее, даже напротив. Все же он, с огорчением покинув свой полк и выйдя в отставку в чине полковника, решил стать образцовым помещиком и принялся хозяйничать в своих имениях.
Зато мать Георгия Иванова была на седьмом небе. Теперь она могла устроить у себя вечный праздник. Что она и не преминула сделать.
Гумилев утверждал, что у поэта обязательно должно быть или очень счастливое, или, напротив, — очень несчастное детство, одинаково — по его мнению — открывающее пути в поэзию.
Если это действительно так, — в чем я, впрочем, сомневаюсь, — Георгий Иванов двойным образом был предназначен стать поэтом — детство его было и необычайно счастливым, и необычайно несчастным.
Родился он, как я уже говорила, 29 октября 1894 года и все свои первые годы провел в Студенках. Имение Студенки его отец купил у своего товарища по полку князя Сейн-Вингенштейна по его настойчивой просьбе.
Имение это находилось на границе Польши и подлежало, по вышедшему тогда закону, «отчуждению», то есть могло принадлежать только русскому подданному. Сейн-Вингенштейн, по-видимому, не был русским подданным. Продал он его более чем по сходной цене отцу Георгия Иванова оттого, что не желал, чтобы в его родных, страстно любимых Студенках жили неизвестные ему люди.
Студенки действительно были восхитительны и славились по всей округе своей красотой. Они мало походили на русские имения и казались каким-то чудом, перенесенным сюда из Италии.
Поэт Мицкевич, посетивший их когда-то, посвятил им стихи, начинавшиеся — в русском переводе —
Ева потеряла рай,
Но нашла его снова в Студенках.
В этом «найденном Евою рае» и прошли райские годы детства Георгия Иванова, Юрочки, как его звали. Он был младшим в семье — сестра его Наташа, на пятнадцать лет старше его, главным образом и занималась им, никогда не браня и предоставляя ему абсолютную свободу во всем. Были у него, конечно, и нянька, и учитель, когда он подрос, но и они ничем не докучали ему.
В студенском парке было много прудов, и на самом большом из них — остров. Этот остров принадлежал Юрочке. Отец, не чаявший в нем души, не только подарил ему остров, но даже выстроил на нем крепость — Юрочкин Форт.
Было у него и собственное потешное войско из дворовых мальчишек и даже собственный флот — большой игрушечный крейсер, плавающий по пруду.
Был у него и шотландский пони, на котором он, вооруженный пикой с картонным щитом, гарцевал по парку, воображая себя рыцарем.
Мать Георгия Иванова — страстная меломанка, поклонница певцов — баритонов, а не теноров, что тогда было в моде, — всячески старалась заманить их к себе и гордилась их присутствием, когда это удавалось, и они проводили целые месяцы в Студенках. Особенно часто приезжал Камионский, приводивший Юрочку в восторг арией тореадора.
Гостей, кроме знаменитых баритонов, было очень много. Большинство из них приезжало на все лето. Тут были и друзья по Болгарии, и семьи артиллеристов — сослуживцев отца Юрочки, и приятели и приятельницы старших детей, часто наезжали и офицеры полка, стоявшего в ближайшем городе.
Жили шумно и весело с постоянными выездами, пикниками, фейерверками и домашними концертами. Отец Юрочки, с утра до вечера занятый хозяйством, не принимал участия в этих беспрерывных удовольствиях, но ничем не мешал им.
Жизнь взрослых мало касалась Юрочки. Он проводил время так, как ему хотелось, в полной свободе, без обычных детских обид и огорчений. Так, за обедом и завтраком никто не приказывал ему: «Ешь суп! Ешь шпинат! Не встанешь, пока не съешь!..» Он сидел в конце стола за скрывающей его вазой с пышным букетом и лукулловски пировал, объедаясь тем, чего обыкновенно не дают детям. Подававший за столом лакей был с ним в стачке и накладывал ему огромные порции того, что Юрочка любил, и молча обносил его остальными блюдами.
Такой режим, противоречивший всем правилам детского питания, не мог, казалось бы, не причинить ему вреда. Но Юрочка никогда не хворал. Даже в отношении здоровья судьба — в раннем детстве — была к нему на редкость добра и милостива.
Художественные вкусы развились в нем очень рано. Этому, возможно, способствовала окружавшая его красота — и парка, и дома, великолепно, с большим вкусом обставленного Сейн-Вингенштейнами.
На закате, когда взрослые или гуляли, или играли в крокет и дом пустел, Юрочка пробирался в «музейную» гостиную, где стены были сплошь увешаны картинами, усаживался с ногами в большое кресло и начинал наблюдать за тем, как меняются картины, как закатные лучи таинственно преображают их. Сердце его радостно замирало. Он переводил взгляд с одной картины на другую, восхищаясь ими.
Особенно ему нравился — за безудержную яркость красок — экзотический пейзаж с пальмами и пестрыми попугаями. Тогда он еще не знал, что это картина Гогена. Он смотрел на нее не отрываясь, и ему казалось, что пальмы начинают приветливо и ласково махать ему своими длинными, блестящими листьями и попугаи расправляют крылья, готовясь сорваться с полотна. Вот-вот они сейчас с криком вылетят к нему. Вот-вот сейчас они оживут.
Он ждал их, глядя на них во все глаза. Но веки его тяжелели и в конце концов закрывались. Он засыпал и спал до тех пор, пока лакей, приходивший зажигать керосиновые лампы в гостиной, не находил его свернувшимся калачиком в кресле, не уносил его в детскую и не передавал с рук на руки няне, укладывавшей его в постель.
Иногда, правда, довольно редко, его мать, проснувшись утром, вдруг вспоминала о своем маленьком сыне и посылала горничную за ним, чтобы вместе с ним выпить утренний шоколад, и тут становилась очень ласковой и нежной — «настоящей мамой», сажала его к себе, расчесывала его локоны и, целуя его, со смехом повторяла: «Как это я могла создать такую прелесть?» — Юрочка действительно был очень красивым ребенком — темноглазым, с длинными золотыми локонами и ярко-красным ротиком. Впоследствии от всей его детской красоты остался лишь ярко-красный рот, ставший к тому же чрезмерно большим и до того ярко-красным, что многим казался подкрашенным.