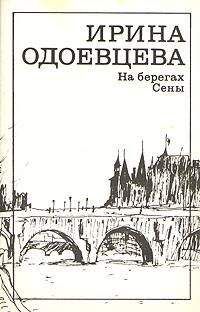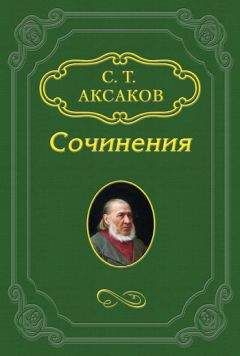Ирина Одоевцева - На берегах Сены.
Он тогда же спрятал ее в толстую папку с надписью «Братская могила неудачников» и больше о ней, к моему огорчению, никогда не вспоминал.
Почему же он теперь, будто желая пригвоздить меня к позорному столбу, заставляет меня читать мою злосчастную балладу?
— Хотите, я вам принесу ее? — снова нетерпеливо спрашивает он.
Я чувствую, что гибну, иду на дно отчаяния, но все же отвечаю:
— Нет. Я помню ее наизусть. Не надо, — и, встав — мы всегда читаем стихи стоя, — начинаю:
БАЛЛАДА О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕСолдат пришел к себе домой,
Считает барыши.
«Ну, будем сыты мы с тобой,
И мы, и малыши!
Семь тысяч! Целый капитал!
Мне здорово везло —
Сегодня в соль я подмешал
Толченое стекло».
Я отчетливо произношу каждое слово, и мой голос не дрожит. Я так переволновалась, так боюсь этого безжалостного Георгия Иванова, который не может не высмеять балладу и ее автора, что меня охватывает, на меня снисходит покой, похожий на летаргический сон, — волноваться уже незачем, все равно я навеки опозорена. Я умерла — «мертвые сраму не имут».
И тут вдруг происходит самое невероятное событие во всей моей молодой жизни. Георгий Иванов провозглашает мою балладу «литературным событием», «новым словом в поэзии» — он, всегда такой насмешливый и холодный, клокочет, как самовар:
— Современная баллада — как раз то, что сейчас нужно! Я ей предсказываю огромное будущее на десятилетия! Это замечательно.
Гумилев кивает, не споря, сразу переменив свое мнение:
— Ты прав, Жоржик... это замечательно!
Я слушаю, не совсем понимая. Неужели это обо мне?..
А через три дня на своей публичной лекции в зале под Думской каланчой Чуковский в присутствии громадной толпы слушателей кланяется мне, «сгибаясь пополам», и произносит громогласно:
— Одоевцева! Я в восторге от вашей чудесной баллады!
И все видят, все слышат.
С этого вечера я, по моему хотению, по щучьему велению, из никому неведомой студистки превратилась не только в «известного молодого поэта» — слово «поэтесса» считалось у нас «пежоративным»[52], а в «надежду русской поэзии», и моя «Баллада о толченом стекле» в десятках рукописных экземпляров стала ходить по Петербургу.
Этим я обязана Георгию Иванову. Без него, по всей вероятности, моя баллада никогда не увидела бы света и так бы и осталась в «Братской могиле неудачников» на дне ящика письменного стола Гумилева.
Как ни странно, я не была Георгию Иванову особенно благодарна и посвятила «Балладу о толченом стекле» не ему, а Чуковскому. Наши отношения не изменились, хотя мы теперь и разговаривали при встречах. Я перестала бояться его злого языка и нашла нужным познакомиться с его «Вереском», но мне его стихи, за исключением «Горлинка пела, а я не слушал», не особенно нравились. Они казались мне лишенными содержания, слишком декоративными и слишком музыкальными. Слишком «de la musique, avant toute chose»[53], как мы говорили тогда.
Осенью того же 1920 года я зашла к Гумилеву проститься накануне моего отъезда на Званку, где служил, «электрифицируя» ее, один из моих двоюродных братьев.
Гумилев в тот вечер встретил меня в совершенно не свойственном ему волнении. Только что к нему приходил Георгий Иванов и принес свой перевод «Кристабели» Кольриджа.
— Я просто потрясен. Это замечательно, чудесно, — говорит он. — Нет, вы только послушайте!..
И, не ожидая моего согласия «послушать», начинает читать мне целую лекцию. Оказывается, «Кристабель» написана размером англосаксонского эпоса XVI века. Перевести ее по-русски невероятно трудно, почти невозможно. А Георгий Иванов не только изумительно передал совершенно необычайный для русского языка ритм и размер, но и все звуковые эффекты.
— Это просто чудо! — повторяет Гумилев.
Я не протестую, хотя я и не интересуюсь ничьими переводами. Сама я никогда ничего не перевожу и в Студии даже не посещаю семинаров великолепного переводчика Лозинского. А сейчас мне, к тому же, хочется вести «задушевный разговор» о предстоящей разлуке на «целую» неделю и слушать уверения Гумилева в том, что он будет скучать по мне, и его уговоры вернуться скорее.
На письменном столе лежит очень толстая рукопись. Неужели мне придется ее всю прослушать? Но делать нечего. Я, вздохнув, сажусь на диван, готовая проскучать, сколько надо будет, а он начинает читать все так же взволнованно.
Но по мере того, как я его нехотя слушаю, я чувствую, что его волнение передается и мне, и вот я уже всецело поглощена и очарована. Я не читала «Кристабели» по-английски, но сейчас в русском переводе она меня потрясает. Я жадно слушаю до самого конца и уже ни о чем, кроме нее и «чуда этого перевода», не могу говорить. Даже забываю о предстоящей разлуке с Гумилевым.
На следующий день я уехала в «званскую жизнь», как я называла пребывания на Званке.
Правда, моя «званская жизнь» ничем не напоминала «званскую жизнь» Державина — ни великолепием и пышностью, ни гастрономическими утонченностями и изобилием. Но то, что Державин так любил Званку, придавало ей для меня совсем особую прелесть, окрашенную поэтичностью.
Была осень. Мой двоюродный брат, как всегда, пропадал с утра до вечера на работе. Я, предоставленная самой себе, одиноко бродила по «в багрец и золото» одетому лесу, не в состоянии отделаться от воспоминаний о «Кристабели». Меня преследовали запавшие мне в память строки перевода Георгия Иванова.
Стоя на берегу Волхова, я декламировала их, прислушиваясь к звукам своего голоса, смешанного с шорохом золотого листопада, и вздохам осеннего ветра:
Хотя полнолунье, но луна
Мала за тучей и темна,
Ночь холодна, сер небосвод.
Еще через месяц — маю черед,
Так медленно весна идет...
В сумерках в лесу становилось таинственно и жутко. Мне казалось, что между деревьями мелькают тени Кристабели и Джеральдины. Где-то над моей головой в темных ветвях истошно вопила выпь, и вопли ее напоминали пророческий вой старой суки лорда Леоляйна. В блаженном ознобе я выбегала из леса и стрелой летела в деревню, в избу, где меня ждали ужин и ночлег.
Так, еще более прелестно, чем всегда, проходила на этот раз моя «званская жизнь», как будто я оторвалась от будничной повседневности. Я чувствовала, что мне необходимо написать что-то. Но я совсем не знала, что именно. Однажды утром вместо того, чтобы идти в лес, я достала из своего чемодана карандаш и бумагу и, сев за стол, написала на белом листе, сразу, без помарок:
К жабе прилетает летучая мышь
Говорить о том, что ночь страшна
Оттого, что мертва луна.
— Пресвятая Дева, помилуй нас,
Добрый сон бежит от испуганных глаз,
А дурного не надо сна...
Я с изумлением смотрю на то, что я написала. Что это значит? О чем это? В голове моей кружатся какие-то слова и образы, какие-то обрывки мыслей.