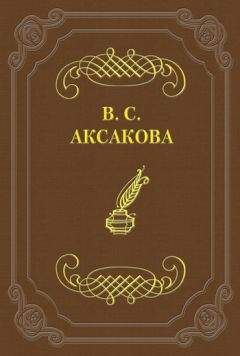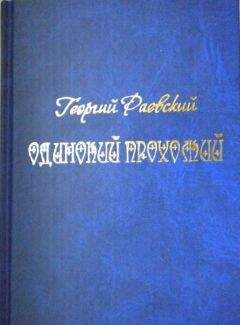Вера Аксакова - Дневник. 1854 год
В пятницу мы кончили читать записки о Гоголе. Боже мой, как он страдал, какие страшные душевные подвиги, какое неутомимое, неослабное, ежеминутное стремление к Богу, к совершенству, непостижимое почти для нас, обыкновенных людей! Это – святой человек, и все его ошибки и умственные заблуждения разве не происходили из тех же прекрасных источников, и как мало, лишь немногие знали его, но Бог ему награда! В субботу утром воротился Иван из Москвы. (Он уехал в среду вечером.) Политические известия все хуже и хуже. Говорят, мы на все готовы согласиться; говорят, будто бы государь сказал: «Я не только приму 4 пункта, я приму 44 пункта». Нессельроде едет в Вену. Можно себе представить, что будет на тайных совещаниях, когда и открытия таковы! Но враги все-таки не дадут нам мира. Австрия присоединилась к Англии и Франции, а Пруссия и Германия к Австрии. Государыня, говорят, больна, великие князья приехали из Севастополя в Петербург. Пусть будут они все здоровы и счастливы, да только не губили бы нас, Россию! Нессельроде в своей депеше к Пруссии пишет: «Pour eviter a I'Allemagne les malheurs de la guerre I'Empereur de Russie est pret a accepter les 4 bases de la paix» (« чтобы избежать несчастий войны в Германии Император России готов принять 4 условия мира», (фр.) ) и т. д. Не ругательство ли это над Россией? Иван привез нам «Journal de Francfort».
Накануне приезда Ивана мы кончили чтение записок о Гоголе. Кулиш как-то был довольнее, свободнее; он очень работал по утрам, списывая из черновых бумаг Гоголя, находящихся у нас, Альфреда, отрывок из драмы. Это ему стоило много труда, написано оно чрезвычайно тесно и слепо. Он перебирал все бумаги и книги Гоголя, разобрал кое-что новое, небольшие отрывки, часто состояние из нескольких только слов, но и в них видны следы его гения. Каждый вечер после чаю Кулиш учил Наденьку петь малороссийские песни, и сам учился петь славянские и другие. В нем много учительских приемов и какой-то старинный методизм в выражениях, в приемах и даже в мыслях, а между тем слышна под этим страстная натура, которая впрочем, как кажется, побеждается довольно сильным характером, но странные у него понятия, особенно о некоторых предметах. Мне кажется, это как будто следы впечатлений <от> Жан Жака Руссо, о котором он и теперь говорит с таким восхищением. Странно, как же он мог понять так истинно, так глубоко Гоголя, чисто духовного человека, и с таким благоговением предаться ему! В пятницу, особенно вечером, все как-то были очень разговорчивы, но поутру в субботу приехал Иван, привез столько неприятных вестей, которые всех смутили.
Кулиш же просил Ивана нанять лошадей так, чтобы Кулиш мог с теми же лошадьми возвратиться в Москву. Иван так и сделал, но когда сказал о том Кулишу, тот сказал, что не думал ехать так скоро, что у него еще есть дело, что неужели уже суббота и т. д. Братья, разумеется, сами уговаривали его не спешить и остаться у нас. Извозчик был отпущен, а между тем вдруг после завтрака Кулиш объявил, что он все кончил и что собирается на другой день ехать. Константин уговаривал его отложить отъезд, но он не согласился. Что было причиной его такого изменения своего намерения и быстрого решения – не знаем, но кажется, это не без причины; может быть (так как он человек весьма щекотливый), ему показалось, что он уже слишком долго у нас зажился, что мы несколько тяготимся его пребыванием, желаем его отъезда, но только из учтивости его уговариваем. Он был как-то смущен и как будто расстроен весь этот день, вечером прочел нам письма Гоголя, которые не вошли в биографию. Мы просили его показать нам главы «Мертвых душ» второго тома. Я и Константин прочли первую, нам столько памятную: ее читал нам сам Гоголь; ничто так живо не напомнило нам Гоголя; казалось, он был тут, казалось, мы слышали его голос. Хотя эта глава далеко не в том виде, в каком он нам ее читал, но и в этом она так прекрасна, что снова произвела на нас то же впечатление, впечатление, которое только Гоголь мог производить; как живо почувствовали, чего мы лишились, чего лишился весь мир: в ком отразится он так, кто его так сознает и передаст! Прежде нам не хотелось, нам было больно, и взглянуть на эти оставшиеся черновые страницы, но теперь так захотелось их иметь!
После чаю Кулиш предложил Наденьке читать по-малороссийски и подарил ей свою тетрадку выписок из малороссийских песен, потом пелись малороссийские и славянские песни, но немного, и скоро все разошлись. – В воскресенье все утро Кулиш работал до Завтрака, списывал разные письма, стихи. После завтрака он сейчас же собрался; видно было, что он взволнован несколько. Простился он со всеми с искренним чувством, он был сильно тронут и благодарил за участие к нему; все простились с ним с самым дружеским чувством и пожелали ему от души доброго успеха его труду.
Он сказал, что на возвратном пути из Петербурга заедет к нам, если что-нибудь необыкновенное его не задержит. Мне кажется, он не думает заехать… Может быть, впрочем, я ошибаюсь.
Вскоре после отъезда Кулиша собрался и Иван. Он переехал к Троице, чтоб там заняться своим отчетом. Лучше этого он не мог придумать ни для себя, ни для мае. Бог да не оставит его!
Вторник, 21 декабря. На прошедшей неделе не было ничего замечательного.
После отъезда Кулиша и Ивана мы, т. е. сестры, принялись за работу для церкви в дальнюю деревню и только в неделю окончили ее. Отесенька и Константин занялись своими занятиями, а маменька говела. По вечерам чтения наши были вовсе не занимательные. Журналы невыносимо пошлы и скучны; повести в них до крайности дрянны; а журналистику решительно нет Сил слушать, до того все глупо, пошло, придирки их друг к другу подлы до отвращения. Особенно мы были избалованы неделю перед этим таким глубоко занимательным для нас чтением, как записки о Гоголе, его письма и т. д. – При такой бедности чтения мы вздумали перечесть «Ульяну Терентьевну» Кулиша, и она опять произвела на нас тоже неприятное впечатление, а в Константине, который читал в первый раз, даже отвращение. – Странный этот человек Кулиш, что за путаница у него в голове; разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений! Мне кажется, это плоды смешения страстного малороссийского характера с влиянием польской жизни и, главное, Ж. Ж. Руссо, про которого он сам сказал, что это был его лучший друг в заточении. Он даже огорчился, что мы напали на безнравственность Руссо, и пробовал его защищать. И сам он, верно, считает такого рода отношения, какие выведены в «Ульяне Терентьевне», самыми чистыми и идеальными. Вот зло такого взгляда, которого, конечно, первоначальным распространителем был Руссо, этот соблазнитель душ, и который до нашего времени действует так пагубно под именами Ж. Занд и т. п. Что за отвратительное смешение чувств, что за утонченная чувственность, которая проникает во все святые чувства и отношения между людьми, и что за нелепость выставить ребенка с такими ощущениями взрослого и т. д.! Надобно отдать справедливость Кулишу, что он способен почувствовать свою ошибку, заблуждение, и почувствовав раз, он, кажется, способен от нее отказаться; силы воли у него на то станет, но не скоро может совершаться такое перерождение, иначе оно было бы не прочно.