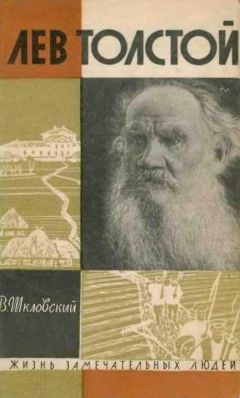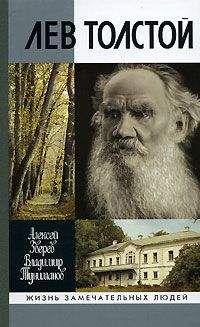Михаил Новиков - Из пережитого
Отца своего в раннем детстве я знал мало. Он уходил больше на фабрику и другие сторонние работы, а когда появлялся дома, то всегда больше пьяный, ругался с матерью, и мы всегда вцеплялись в него, не давая ему бить мать. К Пасхе все фабричные приезжали домой в суконных поддевках, в сапогах с набором и с галошами, в голубых и малиновых рубахах. На другой день по приходе каждого вся деревня уже знала, кто сколько принес денег, покупок, гостинцев. Ждали мы отца, как Бога, но он всегда приходил чист и пьян. И опять на оброки и на хлеб продавалась корова, а мы и на лето оставались без молока. Как мать жила, чем утешалась — не знаю, помню лишь, что по совету моей крестной она иногда подолгу молилась Богу, молилась и плакала, а около нее плакали и мы. С этого же времени у меня возникла та ненависть к пьянству, которая как меня, так и двух моих старших братьев оставила на всю жизнь трезвыми и бережливыми. Каждая добытая копейка и теперь считается мною частью собственного здоровья, через труд переведенного в деньги, и тратится с большой осмотрительностью. Тратить зря деньги и теперь считается равносильным трате зря своего здоровья.
Но был и еще более редкий случай, подтвердивший мне мою ненависть к пьянству. Моя мать, как и все деревенские женщины, участвовала у родственников на свадьбах, крестинах и похоронках, но что она там делала, я не знал. Но когда мне было 6–7 лет и меня мальчишки взяли на одну такую свадьбу, я с ужасом увидел свою мать в числе других ряженых, которые, по тогдашнему обычаю, должны были сопровождать молодых после «красного обеда» к колодцу за водой и обратно. Рядились по-разному. Мужчины медведями, красными лентами и, сидя верхом, гарцевали с дикими криками; женщины мазались сажей, цыганками и, сидя верхом на кочерге или помеле, с хохотом и визгом кружились вокруг молодых и верховых. И моя мать делала то же. Конечно, таких унизительных и срамных телодвижений и действий трезвые люди не могли делать и, вероятно для смелости, пили водку. Была ли выпивши и мать, я не знаю, но я так был поражен и оскорблен этим ее поведением, что сейчас же расплакался навзрыд и стал кричать, чтобы она шла домой. На меня наскочили другие ряженые и оттащили меня от места действия. Дома я ревел долгое время, пока не заболел. У меня был жар, и в бреду я все требовал, чтобы мать шла домой. С этого времени я долгое время был диким и избегал говорить со всеми и даже с матерью, и она перестала быть мне такою дорогой и чистой, какой была до этого случая. С этого времени, кроме пьянства, я возненавидел и все такие деревенские обычаи, обряды и никогда и ни в каких не участвовал сам и не допускал их в своей семье.
Моя мать умела очень складно петь песни как свадебные, так и хороводные. А как раз против нашего дома, только через дорогу, был большой, так называемый «школьный луг», где всякий праздник и днем и вечерами сходилась молодежь и все желающие (а тогда этими желающими бывали даже некоторые старики и старухи) водить хоровод. Вперед сойдутся двое-трое и запоют: «На горе-то калина, под горою малина», а через 15–20 минут, глядь, собрался уже большой хоровод и поются громко и складно хороводные песни, из которых я особенно любил «На горе-то роща… березовая». Для матери только в них и была отрада, и в таких случаях она оставляла нас одних и уходила к хороводу, а нам говорила, что идет куда-нибудь за делом, чтобы мы не просились с ней. И пока я был так мал, что еще не интересовался никакими песнями и деревенским весельем, я очень злобился на нее за эти хороводы и через какие-нибудь полчаса бежал за нею на луг и с плачем тащил от хоровода, ссылаясь на то, что маленький Пашка обмарался, а теткина Аксютка лежит вся мокрая и орет.
Мать бранила нас и шла с неохотой домой.
А годов с семи я и сам полюбил мелодию хороводных песен и быстро стал усваивать их мотивы. После чего я уже не злобился на мать и, когда она уходила, просился с ней к хороводу. А если она не брала нас сама (по холодной или грязной и сырой погоде), тогда я сам закутывал в одеяло Пашку, а Аксютку сажал на тележку и с ними выходил к нашему сараю и через дорогу смотрел на хоровод и улавливал слова и мотивы песен. Матери кто-нибудь говорил, что «твои ребята раздетые сидят за костром», и она опять бранилась и загоняла нас домой. Зато в сухие и теплые вечера сама выводила всех нас на луг и сажала на бревна к хороводу, и мы с великой радостью смотрели на разряженных и поющих и бегали сами вокруг хоровода, попадая под ноги взрослым.
В эти годы моего детства началась русско-турецкая война, и я видел и слышал вой женщин и матерей при проводах на войну своих близких. Помню, как во всей деревне сушились для солдат сухари, которые потом сгнили в общественном амбаре (магазине, как их звали в ту пору). Помню даже, как в разговоре с мальчишками я заявлял, что наши непременно победят турок. И, когда у меня спрашивали, почему я так думаю, я отвечал, что наши русские — настоящие люди, а турки не настоящие и что Бог у нас настоящий, а у них — нет.
Глава 2
Школа и церковь
Когда мне было годов семь, мой отец поступил сторожем в церковную сторожку, и я с этого времени стал маленьким адъютантом у священника, помогал отцу убирать церковь, топить печи, раздувать кадило, бегал за горячей водой, а потом, выучившись грамоте, читал поминанья о здравии и за упокой и потихоньку утаивал у священника по 2, по 3 копейки, подаваемые на поминаньях, а иногда даже по целой просвирке. Я видел, как он в конце обедни доедал «святые дары», подливая красного вина и закусывая просвиркой, я завидовал ему, но сам не мог решиться на это, хотя к этому была полная возможность. На боковых дверях у входа в алтарь были нарисованы сердитый Николай Угодник и Михаил Архангел с огненным мечом и мне всегда казалось, что они очень внимательно следят за мной. Один раз по неосторожности я прошел с дровами в алтарь не боковой дверью, а царскими вратами, которые были открыты по случаю Пасхи, и так перепугался, что не решался идти из алтаря и боковыми дверьми, боясь немедленного наказания огненным мечом от Михаила Архангела, и сидел в алтаре до тех пор, пока пришел отец и позвал меня. С этого времени я совсем сроднился с церковными службами и стал усердным православным. Одно, что мне трудно давалось, это так называемое «говенье». Я хоть и старался не грешить, хоть и хотел быть святым, но постоянный голод и соблазны наталкивали на грехи, о которых надо было говорить на исповеди, а это было стыдно. Я всегда откладывал неделя за неделей и доводил до последней недели — страстной, когда было много говельщиков, между которыми я проходил малозаметным, и когда кончалось это испытание моей детской совести, я радовался сильной радостью, сознавая, что на целый год освободился от такой муки. Тем более что вскоре наступала Пасха, к которой у нас появлялось откуда-то несколько кусков мяса, творог и молоко. В эти дни мы были сыты и в красных рубахах бегали по деревне.