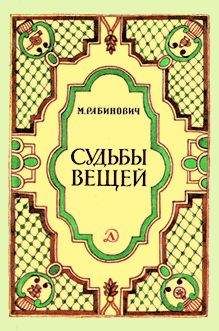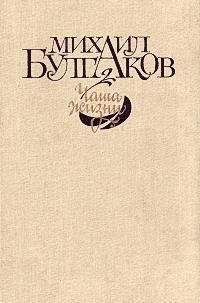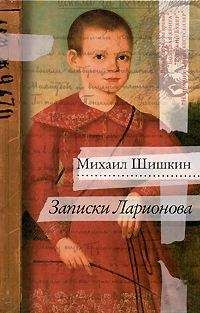Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
Так росла моя мать в семье, где еврейские традиции затухали, уступая место русским и украинским. При большой своей способности к языкам (из нас, сыновей, эту способность унаследовал, к сожалению, один Костя) она одинаково свободно говорила по-еврейски, по-украински, по-русски, а так как окончила гимназию и бывала с родителями за границей, то — и, кажется, весьма порядочно — также по-французски и по-немецки.
Впрочем, если и забывались черты еврейского быта, то вполне почувствовать себя русским это семейство не могло. Время от времени оно получало весьма существенные напоминания о своем еврействе извне.
Общеизвестно, что до революции евреи могли жить не везде, а только там, где царское правительство предоставляло им милостиво «право жительства»[8]. Еврея, живущего без этого права, полиция попросту выдворяла.
Не поэтому ли бабушка Анна Григорьевна так боялась городовых?
Однажды она рассказала мне грустно-смешную историю, как приехала погостить к маме в Москву и, выйдя погулять с Костей, купила ему его любимые маленькие булочки — «жулики». И тут случился грех: бабушка увидела городового, от замешательства споткнулась, упала, да так, что «жулики» рассыпались на тротуар. Женщина она была бодрая, сразу поднялась. Но каков же был ее страх, чтобы не сказать — ужас, когда городовой решительно направился к ней!
— Я просто окоченела, — рассказывала бабушка, — и не могу ни шагу ступить, ни Костю за руку взять. А городовой нагнулся, собрал «жулики» обратно в пакет, подает мне, да еще под козырек сделал. «Не ушиблись ли, барыня?» — спрашивает. Уж то-то мы потом с Надей смеялись!
В самом деле, могли знать городовой, что прилично одетая «барыня» — в Москве без права жительства? И вообще, что никакая она не барыня, а жидовка?
Много позднее в нашей коммунальной квартире соседки напоминали маме: надо бы бабушке отдельно постного приготовить — великий пост на дворе. Такая у Анны Григорьевны была чисто русская внешность.
Не по той же ли причине и дедушка Александр Евсеевич, который, разумеется, городовых не боялся, на старости лет стал председателем Челябинского отделения Общества землеустройства евреев-трудящихся — ОЗЕТ?[9] Может быть, ему особенно горько было вспоминать о прошлом бесправии?
И вот, последние свои дни бабушка провела снова в смертельном страхе. Я, кажется, уже говорил, что она интересовалась политикой и всегда слушала радио. Можно понять, что во время войны она наслушалась о зверствах фашистов, об их издевательствах над евреями. Война кончалась, когда бабушке было уже девяносто. И вскоре после Нюрнбергского процесса у нее начались галлюцинации. То ей слышалось, что маленький правнук Гриша сказал ей: «Жидовка». Они уже научили его этому! То, что по радио сообщили о выселении всех евреев из Москвы. То казалось, что на улице бушуют разнузданные черносотенцы.
— Что-то Надя долго не возвращается, — тревожилась бабушка. — Уж не убили ли они ее на улице?
Или мы заставали бабушку за спешной укладкой самых необходимых вещей.
— Как же. Ведь нас всех выселяют!
Это было всего за несколько лет до пресловутого «дела врачей», до которого бабушка (хочется сказать — «к своему счастью») не дожила.
А семья нашего отца — совсем другая. Из Могилева.
Кажется, в четвертом поколении кто-то и в самом деле был раввином. Отсюда и фамилия — Рабинович. Но, видимо, это не принесло ни богатства, ни почета. Во всяком случае, когда дед женился на девушке из семьи Гранат, брак считался для нее мезальянсом.
У них было, как и полагалось в те времена, шестеро детей, и только первый — мой отец — родился в Могилеве, остальные — в Симферополе, куда переехала тогда еще молодая семья. Жили они небогато, но, как говорила потом мама, «каша всегда была с маслом». Как обычно бывает у людей среднего достатка, национальные традиции были очень сильны.
На этой почве вырос и первый семейный разлад, о котором я узнал уже юношей.
Дедушка Исаак Григорьевич погиб во время погромов 1905 года. Нет, его не убили на улице. Просто коляску, в которой он ехал домой с мельницы, остановили несколько подвыпивших парней с толстыми дрючками[10] и потребовали, чтобы им «было дадено на чай».
— Да не скупись, жидюга, раскошеливайся! Выкладывай все, что есть!
Я не уверен, что точно передаю обстоятельства, так я услышал их от мамы, которая тоже в это время не была в Симферополе. Впрочем, это и не важно. Важно другое: что дед добрался до дому живым, но здесь слег и к вечеру скончался. В своей постели.
Так вот, около трех лет спустя, когда появился на свет первенец моих родителей, его следовало назвать Исааком в честь погибшего деда не только из уважения к покойному, но и по давней еврейской традиции, которая строго запрещает называть детей именами живых родственников, но требует обязательно называть в честь умерших.
— И так бы он ходил всю жизнь Ициком! — говорила мне мама. Конечно, она на это не согласилась (надо сказать, при полной поддержке мужа). Мальчика назвали Константином к вящему негодованию бабушки — ведь так звали ее второго сына, родного дядю этого младенца. Строго следуя традиции, все можно было истолковать даже так, что дяде желают смерти. Конечно, этой последней мысли ни у кого не возникало, но все же моих родителей осуждали тогда многие. А бабушка Фридерика Наумовна, кажется, до конца своих дней не простила маме этой обиды.
Костю же, когда его привозили, она никак не называла, звала просто «мальчик». Впрочем, на моей памяти от этого столкновения двух воспитаний (или, если хотите, двух разнонациональных традиций в среде одной нации) остались лишь слабые следы. И Костю звали Костей. Но даже я помню, что бабушка Фридерика Наумовна была верующая, постилась в положенные еврейской женщине сроки, от чего я, юный член Союза воинствующих безбожников[11], конечно, пытался ее отговорить.
— Знаешь, Мишка, я — старый человек. Мне нетрудно потерпеть несколько часов. А вдруг мне это зачтется, если бог все-таки есть? — отвечала бабушка полушутя, со своим певучим еврейским акцентом.
По рассказам отца я знаю, что дед настаивал, чтобы дети хотя бы по праздникам ходили в синагогу. И, кажется, его слушались. Но никто из них не стал религиозным. Напротив, почти все сыновья уже с ранней юности оказались «замешаны» в революционном движении. Дети росли в Крыму, дружили с крымчаками-евреями[12], русскими, караимами, татарами. В этом отношении здесь был полный интернационал. Еврейского языка — ни древнего, ни идиша — не знали. Над этим посмеивались их Могилевские кузены, которые, приезжая погостить, болтали с дядей и теткой на жаргоне.