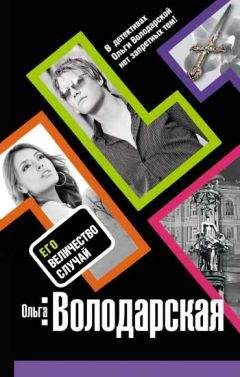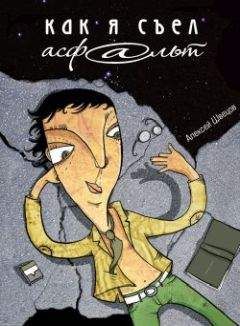Реми Гурмон - Книга масок
Анри де Ренье умеет стихами сказать все, что хочет. Его тонкость, его проницательность не знают границ. Он передает едва зримые оттенки человеческой мечты, неуловимый бег фантастических видений, переливы расплывающихся красок. Обнаженная рука, конвульсивно опирающаяся на мраморный стол, плод, качаемый и срываемый ветром, забытый пруд – этих нюансов совершенно достаточно для него, чтобы создать прекрасную и чистую поэму. Его стих ставит перед глазами живые образы. Несколькими словами он умеет передать то, что видит внутри себя.
Печальные пруды, где тают вечера.
Не собраны никем, цветы там опадают.
Речь его безукоризненна. И этим он тоже отличается от Верхарна. Его поэмы, являются ли они результатом долгого, или короткого труда, никогда не носят на себе отпечатка усилий. С удивлением и восхищение следишь за прямым и благородным бегом его строф, которые, подобно белым коням в золотой сбруе, несутся вперед и исчезают в темной славе вечеров.
Богатая и тонкая, поэзия Анри де Ренье никогда не отличается одной только лирикой. Среди гирлянд метафор у него всегда сверкает какая-нибудь идея. И как бы схематична, как бы неопределенна ни была эта идея, ее все же совершенно достаточно, чтобы ожерелье поэтических образов не рассыпалось в беспорядке. Все ее жемчужины нанизаны на нитку, иногда совершенно незаметную, но всегда крепкую. Таковы, например, следующие строки:
Такою бледною заря была вчера,
Над мирными зелеными лугами,
Что с раннего утра
Дитя явилось меж кустами
И наклонялось над цветами,
Чтоб асфодели рвать прозрачными руками.
Был полдень грозно жгуч и тусклы небеса,
В саду – безмолвная и мертвая краса,
Деревьев веянье живое не касалось;
Как мрамор жесткою вода казалась,
А мрамор светлым был и теплым, как вода.
Прекрасное Дитя явилося сюда
В одежде пурпурной и в золотом венке,
И долго виделось вблизи и вдалеке
Как огненных пионов кровь стекала,
Когда меж них Дитя мелькало.
Дитя нагое вечером пришло
И розы собирало в темной сени,
Оно рыдало, зачем сюда пришло,
Своей боялось тени.
Ребенок был так наг и мал,
Что в нем свою судьбу я вмиг узнал.
Это простой эпизод длинной поэмы, в свою очередь являющейся фрагментом целой книги. Это маленький триптих, имеющий несколько значений, сообразно с тем, берется ли он в отдельных своих частях, или целиком. В одном случае – перед нами судьба отдельного существа, в другом – символ жизни вообще. Но этот отрывок дает нам также и образец настоящего свободного стиха, поистине совершенного, виртуозного.
Франсис Вьеле-Гриффен
Я не хочу сказать, что Вьеле-Гриффен веселый поэт, но, несомненно, это поэт веселья. Вместе с ним принимаешь участие в радостях простой, нормальной жизни, в стремлениях к миру. Вместе с ним приобщаешься к непоколебимой вере в красоту, в непобедимую молодость природы. Он не буен, не пышен, не нежен – он спокоен. Очень субъективный, впрочем, может быть, именно благодаря своей субъективности, он религиозен, так как думать о себе значит, в конце концов, думать о всей своей личности в полном ее объеме. В природе он, как Эмерсон, видит «прообраз древней религиозной мысли человечества». И как Эмерсон, он думает, «что день не пропал даром, если внимание хоть на мгновение было уделено природе». Он знает и любит все элементы леса, начиная от «больших, нежных ясеней» до «молодых, бесконечно разнообразных трав». И, несомненно, это его лес, о котором он говорит:
Вся жимолость покрылася цветами,
Сочатся солнца золотые слезы,
Шуршит косуля быстрая кустами,
И ветер веет по кудрям березы
Между листами.
В моих лугах осеребрились травы,
Как шпаги блеск блестят лучи далеко,
Жужжанье пчел услышите с утра вы
И ландыши по берегу потока,
И ветер веет в ясенях дубравы.
Но он знает не только цветы, которыми пестрят луга, он знает также «La feur qui chante»[11], и «Celle qui chante»[12], и лаванду, и майоран, фею старых баллад и сказок. Он помнит припевы народных песен и вводит их в свои маленькие поэмы, похожие на комментарии к основному тексту, или просто на поэтическую грезу.
Где наша Маргерита?
Огэ, Огэ!
Где наша Маргерита?
Она в высоком замке усталая все ждет,
Она в своей землянке так весело поет,
Она в своей могиле, – там ландыш расцветет.
Где наша Маргерита?
И это почти так же трогательно, как стихи Жерара де Нерваля:
Где наши милые?
Они в могиле.
Житье постылое
Там позабыли.
И так же невинно жестоко, как те хоровые песни, которые поют маленькие девочки:
К чему дана краса?
Чтоб в землю зарывать,
А там червей питать,
А там червей питать.
Вьеле-Гриффен пользовался с чрезвычайной осторожностью народной поэзией, в которой так мало искусственного, что она кажется как бы рожденной, а не сотворенной. Но если бы он был и менее скромен, то все же не злоупотребил бы ею, ибо он умеет чувствовать и уважать. Другие поэты, к несчастью, отличались меньшим благоразумием. Они срывали «La rose qui parle»[13] такими неуклюжими и грубыми руками, что было бы лучше, если бы вечное молчание царило вокруг этой прелести народной фантазии, ими оскверненной и униженной.
Море, как и лес, тоже очаровывает и опьяняет Вьеле-Гриффена. В одной из первых своих книг «Cueille d'Avril»[14] он дал нам полное его описание. Он показал море всепожирающее, ненасытное, море – бездну, море – могилу, море дикое, с горделивой и победной волной, море, отдающееся сладострастной ласке прибоя, море грозное, беззаботное, настойчивое, завистливое, играющее красками звезд и солнца, светлой зари и темной ночи. Поэт упрекает это море за то, что оно блестит чужой славой, и гордо заявляет, что не последовал его примеру и не искал почета в счастливых реминисценциях и наглых плагиатах! И надо признать, что Вьеле-Гриффен, который уже на первых ступенях своей поэтической деятельности не говорил пустых слов, сдержал впоследствии свое обещание. Он остался самим собою, свободным, гордым и неприступным. Его лес не безграничен, но это не шаблонный лес: это – владения его фантазии.
Не касаюсь другой, чрезвычайно важной стороны его творчества: его роли в трудном деле завоевания свободного стиха. Хотелось только передать более общие, глубокие впечатления. Я говорил не только о форме, но и о самом существе его искусства. Я хотел отметить ту новую струю, которую он внес во французскую поэзию.
Стефан Малларме