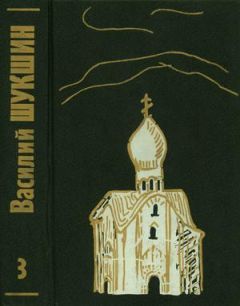Владимир Коробов - Василий Шукшин: Вещее слово
О детстве своем – написал и рассказал много; о том, как в школе работал, – сообщил; о поступлении во ВГИК и об учебе там (особенно в последние годы жизни) – тоже немало поведал; далее жизнь его – и кинематографическая, и «житейская» – уже, можно сказать, и вовсе хорошо прослеживается. А что же годы юности и первой молодости? Словно вето какое—то на них наложено: «Молчи, скрывайся и таи…» Главным образом – одни сугубо внешние, чуть ли не анкетные данные, из которых вывести, понять «историю души» его (а именно она, повторяем, «история», «биография души его» и интересует нас прежде всего!) почти невозможно.
«…В 1946 г. ушел из деревни. Работал в Калуге, на строительстве турбинного завода, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья». А потом столь же кратко сообщал в интервью (да и то – в считаных!), что служил затем на флоте, в Севастополе.
Негусто. Особенно если не забывать, о каких годах жизни человеческой идет речь. Разве не они, разве не юность и молодость во многом определяют дальнейшее наше и духовное и физическое развитие! Об этом существует целая литература – и специальная, и популярная, и художественная. Но если это так существенно и справедливо вообще, в приложении к любому человеку, то в нашем случае еще важнее, важнее во много крат.
…Давайте—ка посчитаем, произведем нехитрое арифметическое действо (удивительная вещь, но, насколько знаю, никто еще этого не делал, а между тем результат…). Итак: ушел из деревни в 1946 году, а вернулся туда после всех своих скитаний и военно—морской службы – в 1952–м. Каков результат? Семь лет. Целых семь лет его не было дома! Ушел шестнадцатилетним безусым парнишкой (мальчиком почти глядит он на нас с фотографии, сделанной «на паспорт»), а вернулся много повидавшим двадцатитрехлетним мужчиной, уже с малыми морщинками на челе и безвременной хворью в теле (признали язву желудка, из—за нее и не дослужил немного срочную).
Представьте себе:
семь лет – из города в город! Семь лет – по чужим углам, по баракам, общагам, казармам! Семь лет – «в людях», не видя ни одного родного и близкого человека (только редкие письма с Алтая и на Алтай)! Семь лет – внутреннего одиночества, замкнутости душевной! И все это в «нежном» возрасте, на заре туманной юности. И все это…
Впрочем, стоп. Кажется, уже не «арифметика» пошла, а чуть ли не «выводы» какие—то, хотя бы и предварительные. А между тем мы еще и не пытались – только намереваемся – приоткрыть тот таинственный покров над годами бездомных странствий юного Васи Шукшина (Василием Макаровичем он станет много лет спустя). Но – вот вопрос! – просто ли, да и вообще нужно ли на это «приоткрывание» решиться? Во—первых, смущает предполагаемое авторское «вето», хотя оно, по некоторым данным, и нарушено им самим. Во—вторых, как ни крути, но совершенно строгими документами и материалами о юных и молодых годах нашего героя мы не располагаем (скорее всего их и не существует).
Но с другой стороны, – на иной, так сказать, чаше весов, – на эти сомнения в праве «приоткрывания тайны» есть и свои, не менее солидные. А может быть, и «перевешивающие» контрвыводы. Ну, в самом деле, несомненно ведь, что, не разобравшись в этом важном во всех отношениях семилетии шукшинской жизни, мы рискуем неверно понять не только какие—то особенности, но и творческий путь писателя в целом. Рискуем не разглядеть, насколько это сегодня возможно, не оценить в полной мере его простой и сложный художественный мир.
Значит?.. Значит, все же решаемся (хотя и не без робости, хотя и с оглядкой). Решаемся сказать, ну как гипотезу, что ли, хотя, думается, это совсем и не гипотеза, – следующий взгляд на «годы ухода» Васи Шукшина.
Смутно здесь как—то все, словно в белесом тумане проступает. Но все—таки проступает. Итак…
* * *Первая послевоенная зима на исходе. Россия, бескрайние ее дороги, медленные поезда, а в вагонах…
В вагоне пахнет зимним хлевом,
Гремят бидоны на полу.
Сосет мороженое с хлебом
Старуха древняя в углу.
Полным—полно, народ в проходе
Бочком с котомками стоит.
И о лихой морской пехоте
Поет нетрезвый инвалид.
Везут людей те же военные теплушки. Стыло, знойко, радостно и горестно. Мы победили, но земля наша в руинах. Мы победители, но дети наши – сироты. Дети наши – не дети, не было уже и не будет ни детства, ни отрочества, ни юности.
Вот они какие, подростки тех лет (поэтическая хроника Александра Твардовского – документ высшей силы):
Горбушка хлеба, две картошки —
Всему суровый вес и счет.
И, как большой, с ладони крошки
С великой бережностью – в рот.
Глядит, задумался мужчина.
– Сынок, должно быть, сирота?
И на лице, в глазах, похоже, —
Досады давнишняя тень.
Любой и каждый все про то же,
И как им спрашивать не лень.
В лицо тебе серьезно глядя,
Еще он медлит рот открыть.
– Ну, сирота. – И тотчас: —
Дядя, Ты лучше дал бы покурить.
Вася Шукшин старше героя Твардовского, но это и его портрет, ибо он, шестнадцатилетний юноша, бог весть куда едущий и бредущий под песни фронтовиков по весенней России 1946 года, был дважды сирота. «А вот мать моя… – скажет он годы и годы спустя в наброске документального сценария. – Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй в 31 год, в 1942 г.».
Родного отца Шукшин по малолетству не запомнил, а отчима полюбить не успел. Вот что об этом говорит он сам в автобиографическом рассказе «Первое знакомство с городом»:
«Перед самой войной повез нас отчим в город. Город этот – весь деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.
Горько мне было уезжать. Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя—то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму… (Теперь знаю: это был человек редкого сердца – добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми, да еще «вра—женятами», так как тятя наш ушел «по линии ГПУ» и его, слышно было, ликвидировали.)
Так вот назло отчиму – папке, чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» – курить. Из уборной, из всех щелей, повалил дым. Папка увидел… Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек – смуглый, крепкий, с карими умными глазами… Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.
– Ну? – сказал он.
– Курил…
Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму… Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой – бьет детей» (Новый мир, 1968, № 11, с. 98).