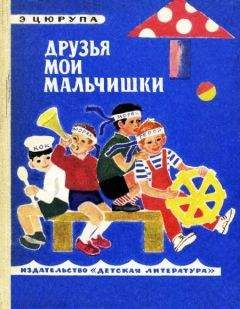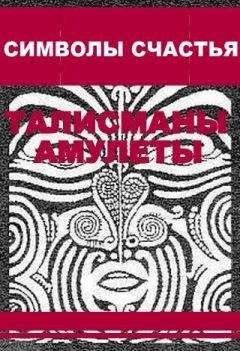Илья Олейников - Жизнь как песТня
– Жарко что-то, плесните там что-нибудь.
Потом все-таки решили вызвать пожарных. Пожарные приехали, развернули шланг, выцедили из его недр ржавую одинокую каплю, свернули шланг обратно и со словами: «И куды только эта вода девается, етишкина мать?» – уехали. Так что дотушивать пожар опять-таки пришлось нам. Через час со стихийным бедствием было покончено.
Счастливые и довольные, покрытые гарью, мы вновь вошли в погасшее, но еще пахнувшее жареным общежитие, где и продолжили празднование.
Прочитав докладную коменданта о «героическом поведении студентов» с прось-бой выдать каждому в качестве поощрения по десять рублей, директор училища порвал ее.
– Им по червонцу дашь, а они напьются и сожгут общежитие окончательно, – мудро заметил он и приказал объявить благодарность, кою мы и отметили выпивкой.
Я прожил в этом памятнике деревянного зодчества около двух лет и сохранил о нем множество приятных воспоминаний. Например, о том, как мы питались.
С занятий все возвращались поздно, а возвратившись, принимались готовить. Все, кроме меня. Я обычно так напихивался в обед, что был уверен: к ночи никак не захочу есть. «Ну, – думал я, садясь за обеденный стол и оглядывая немыслимое количество тарелок с дешевыми гарнирами, – уж сегодня я обязательно наемся так, что до завтра хватит». Но вечером, придя в родное логово, с удивлением обнаруживал у себя чувство голода. Чувство это усиливалось упоительным запахом жареной картошки, доносящимся со стороны кухни, – единственным доступным лакомством для его безалаберных обитателей.
Попроситься на халявку мне казалось неудобным. В конце концов, я и сам мог пойти в магазин и купить килограмм той же картошки. Но, как я уже говорил, – ошибочное дневное убеждение, что сегодня мне точно не захочется, мешало добраться до торговой точки.
Иногда я покупал докторскую колбасу. Граммов сто. Для того чтобы колбасы казалось побольше, я разрезґал ее на бесчисленное количество мелких кусочков, пока на подстеленной газетке не возникала эдакая колбасная пирамидка Хеопса. Но соблазнительный запах, идущий с кухни, не давал мне получить полное удовлетворение от докторских обрезков.
Однажды я, превозмогая обеденную сытость, все-таки заставил себя заглянуть в овощной отдел. И вот уже отборная картошка бултыхалась в пакете, смиренно дожидаясь своего конца. Я любовно омыл ее, аккуратно освободил от шкурки, разрезал тонкими ломтиками, приготовил сковородку… и вдруг вспомнил, что не купил масла. Масло в общежитии по причине дороговизны относилось к предметам роскоши. Возможность приобрести его без ущерба бюджету имело всего несколько человек, и все они по этой причине считались куркулями. Они как бы являлись монополистами и задарма масла не давали. Продать могли, но чтобы за так?.. Да не в жисть!
Живший вместе со мной Володя Шмагало (мы прозвали его Жигало, так как за кусочек сыра он мог переспать даже с пожилым ежиком) волком рыскал по комнате. Но было видно, что Шмагало не прочь перекусить, да вот беда – нечего.
– Шмагало, – затаенно спросил я, – ты случайно не знаешь, у кого есть масло?
При слове «масло» шмагальи глаза алчно блеснули.
– У Петьки Толдонова, – с ненави-стью сказал он. – У него кулацкое рыло!
По всему ощущалось, что с голодухи внутри Шмагало назревала революционная ситуация.
– Хавать хочешь? – забросил я удочку.
– А то! – откликнулся Шмагало.
– Тады пошли к Петюне.
– А что мне за это будет? – поинтересовался изголодавшийся Шмагало.
– Картошка будет! Жареная! – пообещал я.
– Привет, Толдонов! – тепло поздоровались мы с еще ничего не подозревающим масличным монополистом. Я стал шарить глазами по комнате в поисках вожделенной бутылки и вскоре нашел ее на шкафу, хитро замаскированную коробками.
– Чего пришли? – спросил Толдонов, косо поглядывая на непрошеных гостей и нутром чуя какой-то подвох.
– Да так! – как-то чересчур по-доброму сказал Шмагало. – Поболтать, покалякать…
– Делать мне больше нечего, кроме как с вами разговоры разговаривать, – огрызнулся Толдонов.
– Нет, ты погоди, ты послушай…
И тут Шмагало включил третью скорость и пулеметной очередью принялся извергать на бедного Петюню миллиарды слов, смысл которых не имел никакого значения. Значение имел темп, а темп, товарищи, Шмагало задал бешеный.
Толдонов оцепенело выслушивал шмагалье стрекотанье, а я, воспользовавшись паузой, подкрался к шкафу, цапнул заветную бутыль, заглотнул чуть ли не на четверть и стремглав кинулся из комнаты к сковородке, куда и выплеснул ее пахучее содержимое прямо изо рта. Масло приятно зашкворчало. Я забросил туда уже нарезанную картошку и начал шкворчать вместе с маслом. Вскоре притопал и Шмагало.
– Жарится? – вдохновенно спросил он, и так видя, что жарится.
– Ну, как там Толдонов? – поинтересовался я на всякий случай.
– Да ничего он не заметил, твой Толдонов, – отмахнулся Шмагало, полно-стью погруженный в процесс жарения.
– Эх, сейчас бы чайку, – мечтательно произнес он, – да с заваркой напряженка! Может, опять к Толдонову? У него и заварка есть, я точно знаю! А я бы поотвлекал, а?
Но я решил не искушать судьбу дважды.
– Как-нибудь в другой раз, – сказал я и, зажав ручку сковородки тряпочкой, чтоб не жглась, понес ее на съедение.
Как-то на молодежной вечеринке я познакомился с Юрой Николаевым,
Он, как и я, приехав в Москву из Кишинева, учился на втором курсе театрального института и знать не знал, что впереди его ожидает слава популярного телеведущего «Утренней почты».
Общежитие ГИТИСа, в отличие от нашей куриной избенки, находилось в самом центре, неподалеку от Рижского вокзала.
Рижский вокзал был хорош тем, что на нем частенько ночевали туристские поезда, к которым в обязательном порядке подцепляли вагон-ресторан.
То, что туристы не подъедали за день, оставалось на ночь. Мы же, зная об этом, совершали иногда ночные набеги на поваров. Это, конечно, нельзя было квалифицировать как грабеж, поскольку делалось все деликатно и вежливо.
Я приезжал к Юре, он прихватывал с собой кастрюльку, и вот, на ночь глядя, с кастрюлькой наперевес, мы направлялись к ближайшему составу с рестораном. Тихо скреблись в вагонную дверь, дожидаясь, пока она растворится, и на немой вопрос повара протягивали пустую кастрюльку, говоря только:
– Батя, шваркни чего осталось, все равно выбрасывать!
Говорил в основном я, а сам Юра, покрываясь от смущения пунцовой краской, застенчиво протягивал кастрюльку. Ему было чего смущаться – отец Юры служил начальником тюрьмы, и весь город находился в курсе того, что его единственный сын учится в Москве на артиста. Узнай случайно Николаев-старший, что возлюбленное чадо, вместо того чтобы жадно поглощать знания, ошивается жалостливо с кастрюлькой у вагона-ресторана, пристрелил бы последнего прямо у вагона вместе со мной, поваром и всем составом.