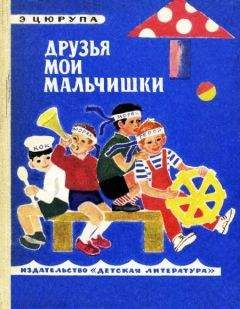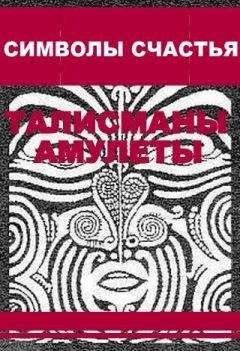Илья Олейников - Жизнь как песТня
– Фергей Мифалков. Бафня «Жаяч во фмелю».
В переводе на русский это означало: "Сергей Михалков. Басня «Заяц во хмелю».
Ф жен именин,
А, можеч быч, рокжчения,
Был жаяч приглакхчфен
К ехчву на угохчфеня.
И жаяч наф как сел,
Так, ш мешта не кхчщкодя,
Наштолько окошел,
Фто, отваливхкчишкхч от фтола,
Ш трудом шкажал…
Что именно сказал заяц с трудом, отвалившись от стола, комиссия так и не узнала. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, за-икаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипенью, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала и дружно ушла под стол. Так сказать, всем составом.
Я ничего этого не замечал, я упивался собой.
– Хватит! – донеслось до меня откуда-то снизу. – Прекратите! Прекратите немедленно!
Это кричал из-под стола серый от конвульсий все тот же Юрий Павлович Белов.
– Прекратите это истязание! Мы принимаем вас! Только замолчите!
Я был счастлив, но счастье мое длилось недолго. Нина Николаевна, педагог по сценречи, окунула меня в ушат с холодной водой.
– Дитя винограда! – сказала она. – Если ты не займешься своей дикцией, через полгода вернешься домой.
Каждый день с утра до вечера я как проклятый выворачивал наизнанку язык, наговаривая невероятные буквосочетания. И наконец на одном из занятий отчеканил:
Шты, штэ, шта, што.
Жды, ждэ, жда, ждо.
Сты, стэ, ста, сто.
Зды, здэ, зда, здо.
Шипящие и свистящие звенели, как туго натянутая струна.
– Молодчина! – похвалила меня Н.Н.
– Хфто, правда хорофо? – по привычке спросил я.
И все улыбнулись.
ДЕЙСТВИЕ
Общежитие циркового училища располагалось в Кунцеве, метрах в двухстах от станции.
Ничто не предвещало того, что Кунцево вскоре станет одним из самых престижных московских районов.
Это был небольшой уютный поселок, состоящий в основном из небольших деревянных домов, в центре которого стояла наша общага, где и жило двадцать молодых, пышущих здоровьем бугаев. Общага была настолько стара, что помнила еще времена Наполеона. Во всяком случае, как утверждал комендант, первый раз она горела в 1812 году.
Только не тогда, когда вся Москва была сожжена из патриотических побуждений, а несколько позже.
Да и причина была более прозаиче-ская, нежели у Кутузова.
Пьяный кучер, используя войну с французами в корыстных целях, поймал в сенях дворовую девку, чтобы надругаться. А так как в сенях было темно и надругаться над жертвой в столь нерабочих условиях было несподручно, то он, подлец, разжег лучину и начал свое бандитское дело. А девка как назло так разохотилась, что и забыла, дуреха, что ее силой взяли. «Ишшо, – говорит, – хочу!» А кучеру только того и надо.
Тут-то сени и занялись. Любовнички cначала не заметили. А потом увидели вроде, а остановиться не могут. Вот ведь народ – видят же, что горят, а не могут. В общем, оба накрылись.
Каждый раз, рассказывая эту трагиче-скую легенду, комендант заканчивал ее одними и теми же словами:
– Так что, стервецы, коды увключаити газ, будьти осторожны с огнем! И сигаретками нечего шмалить на территории – самовозгоримся к едрене-фене!
Так общага и жила! В ожидании самовозгорания. И, хотя ждала она его еже-дневно, пожар, как оно и бывает, случился неожиданно.
Произошло это 9 Мая. Вся страна с ликованием встречала День Победы, ну и мы, сирые ее дети, привезя в общагу несколько пудов выпивки и взвод баб, тоже дружно присоединились к всенародному празднику.
Шухер стоял на всю округу. Танцы-шманцы-обжиманцы, песни под гитару, ор, рев – в общаге густо запахло развратом. Гуляли истерично, пока некая особа – по всему видать, серьезная девушка, – деловито посмотрев на часы, не произнесла:
– Ну-с, как говорится, делу – время, а потехе – час! Пошустрили и будя. Айда по койкам!
Через несколько минут двухэтажный особнячок погрузился во тьму и, по-старчески осев, начал недвусмысленно поскрипывать. Лежащая рядом со мной растекшаяся, как капустный лист по огороду, цирцея после весьма недлительной фиесты, глядя в бесконечность, нежно проворковала:
– Боже, какой удивительный рассвет, прямо как у Тургенева!
Я, несколько обеспокоенный кратко-стью эротического процесса, не обратил никакого внимания на вдохновенные слова лирически настроенной партнерши. Но поэтическое настроение не покидало ее.
– Неужели ты не видишь, какой сегодня багряный рассвет? – продолжала допытываться она.
«Какой еще на хрен рассвет в два часа ночи?» – подумал я и неохотно подошел к окну. То, что тургеневская поклонница приняла за восхитительное явление природы, на самом деле оказалось весело полыхающим флигельком.
– ПОЖА-АР! – завыл я зычным голосом, тут же забыв о неприятном инциденте. Однако увлеченные любовью цирковые бугаи не отнеслись к моему тревожному кличу с должным вниманием.
– Да пошел ты… – неслось из комнат.
– Козел!!!
– Кайфоломщик, нашел время хохмить…
– ПОЖА-АР!!! – продолжал завывать я, и бугаи, наконец прочувствовав в моем кликушестве полное отсутствие юмористических интонаций, повскакав в чем мать родила, неорганизованным стадом чухнули к выходу. За ними вслед, попискивая и повизгивая, выпорхнула испуганной стайкой группа полуголых баб. А выскочив и прикрывшись, кто подушкой, кто полотенчиком, бабы дружно уселись на скамеечку, всем своим видом показывая, что ждут от нас самых решительных действий.
Не находись они в эту праздничную ночь рядом – никто бы и пальцем не пошевелил, но присутствие столь причудливо одетых и к тому же только что охваченных нами дам настолько возбудило наше бугайское сознание, что мы готовы были погасить даже луну, а не то что какой-то занюханный домик.
Народ приступил к героическому тушению. Признаюсь, больше никогда в жизни я не совершал такого количества бессмысленных поступков, как в ту ночь. Да что там я?
Все мы, в каком-то непостижимом, диком стремлении понравиться беззаботно сидящим на скамеечке боевым подругам, суетились, колготились, – словом, делали все, чтобы не только погасить пламя, но и заставить его бушевать еще пуще.
В жуткой суматохе мы принялись спасать железную, а потому никак не могущую загореться бочку с песком и доспасались до того, что обрушили стоящий рядом и уже вовсю полыхающий забор на находившегося подле него флегматичного, неуклюжего Колю Сорокина. Забор, покрывалом накрыл собой жирное сорокинское тело, а тот, совсем уже было готовый вовсю заорать: «Угораю, бляди!» – вдруг вспомнив про девушек, благородно заметил: