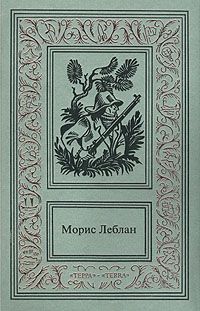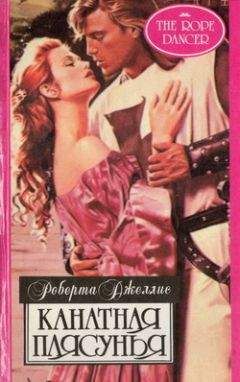Елена Арсеньева - Тосканский принц и канатная плясунья (Амедео Модильяни – Анна Ахматова)
Как беззащитно иногда проговариваются женщины, как точно указывают адрес того, о ком не хотят, не хотят, не хотят ничего знать! Эта маргаритка, лепестки которой Анне теперь суждено обрывать… Почему маргаритка, а не ромашка, которую издревле обрывали все влюбленные русские барышни-крестьянки? Да потому, что именно на маргаритке гадают во Франции! Обрывают ее лепестки и шепчут:
Маргаритка,
Маленький цветок,
По краям красная,
С зеленою каймой,
Открой судьбу любви моей…
Точно так же невзначай проговорится Анна о предмете своей тайной страсти в строках:
Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Впервые она узнала, что можно пить не просто из стакана, а через соломинку, именно там, в Париже, в «Ротонде», где встретила Амедео!
Погруженная в размышления о судьбе любви своей, Анна бывала на «Башне» у Вячеслава Иванова, в квартире знаменитого поэта, известного своей эпатажностью, а грубо говоря – безнравственностью. Таким же был и весь этот петербургский круг, не только поэтический, но и сильно-таки содомский. Однако эта грешная суета пока что пролетала мимо Анны, потому что сердце ее было занято другим. Куда более значительным.
Единственным, имевшим для нее значение в жизни!
Из Парижа начали приходить письма. И какие!
«Он всю зиму писал мне… Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них: «Vous кtes en moi comme une hantise…»[3] – сдержанно признается она потом-потом-потом, после-после-после.
Он тоже был для нее – comme une hantise, как наркотик, как вино. Голос, этот его незабываемый голос…
Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.
Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
И знать, что все потеряно,
Что жизнь – проклятый ад!
О, я была уверена,
Что ты придешь назад.
Существовать с сознанием, что все потеряно, было невыносимо. Хотя именно это ощущение и рождало прекрасные стихи! Радуясь своим несомненным поэтическим успехам и умирая от любви, Анна встретила вернувшегося из африканских странствий Николая Гумилева.
Умные люди уверяют, будто страдание – разменная монета: получив ее, немедленно захочешь передать другому. Неверная жена сделала все, чтобы и жизнь мужа превратить в проклятый ад – как могла, она постаралась омрачить его триумф, лишить радости первооткрывателя, капитана, рыцаря, конкистадора, добывшего-таки свою голубую лилию. Сколько угодно можно было рассказывать, что он отрыл из-под песка древний храм, что именем его названа река, что в стране озер пять больших племен слушали его и чтили его закон… Ей все это было безразлично, она думала только о своем:
И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.
Вскоре после возвращения Гумилева из Африки, в самый разгар своих первых, таких важных для нее, поэтических успехов Анна одна уехала в Париж – к тому, о ком томилась целый год. Уехала все так же, как и прежде, совершенно не зная этого человека, а только ощущая его всем существом своим. Поэтому встреча в Париже была для них прежде всего узнаванием друг друга, знакомством, попыткой понять: может ли из этой встречи выйти нечто большее, чем утоление страстного, почти неодолимого голода, который они испытывали в разлуке.
Решение поехать в Париж не было таким уж неожиданным, как могло показаться и как потом уверяла Анна Андреевна, которая на старости лет начала вдруг заботиться о своей репутации: она и Модильяни сговаривались об этой поездке в письмах! Встреча была назначена именно на май. Анна ждала возвращения Гумилева, который дал бы ей денег на поездку. Своих-то средств у нее не было… И муж дал денег. Конечно, куда ж деваться. Неведомо, под каким предлогом она уезжала, знакомиться, видимо, с недосягаемыми вершинами французской поэзии, совершенствоваться в языке… Как ни странно, Гумилев это проглотил: ему и в голову не могло прийти, что мимолетная встреча в «Ротонде» с каким-то «пьяным чудовищем» (он весьма презрительно отзывался о том художнике!) могла иметь последствия, столь разрушительные для его семейной жизни.
То, что эта встреча была заранее условленной, намеченной на май, снова выдали стихи. Как выдали и то, что Модильяни уже знал сокровенную красоту тела Анны, почти фантастическую гибкость, которой она поражала друзей и знакомых. Именно тогда он прозвал ее циркачкой, канатной плясуньей.
Меня покинул в новолунье
Мой друг любимый. Ну так что ж!
Шутил: «Канатная плясунья!
Как ты до мая доживешь?»
А дальше – аллегория притворства, которым она мучилась весь год, пытаясь «дожить до мая»:
Ему ответила, как брату,
Я, не ревнуя, не ропща,
Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.
Пусть страшен путь мой, пусть опасен,
Еще страшнее путь тоски…
Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!
Оркестр веселое играет,
И улыбаются уста.
Но сердце знает, сердце знает,
Что ложа пятая пуста!
При встрече они ощутили не только радость, но и некоторое разочарование: «Я могла знать только какую-то одну сторону его сущности – сияющую, – ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся». Что ж, так часто бывает, когда чего-то очень сильно ждешь и многажды лелеешь в мечтах, а потом оно, то самое, приходит и… Вообще, не случайно же многие мудрецы уверяют, что ожидание счастья счастливей его достижения.
«Потемнел и осунулся»… Ну, может быть, и так. Хотя это изменение было связано не с унынием безунывного хулигана, а просто с медленным, но верным разрушением им своего собственного здоровья. Все теми же испытанными средствами: вином и наркотиками. А также – работой на износ.
В Париже Анна поселилась на рю Бонапарт, неподалеку от бульвара Сен-Жермен. Это было не слишком-то далеко от Монпарнаса, от улицы Вожирар, где находилась мастерская Модильяни. И началось то, ради чего она приехала, началось, но – в скучной, благопристойной, насквозь католической комнате с ее искусственными цветами, вышитым благонравным изречением над кроватью, старыми статуэтками на каминной полке… Однако комната эта, словно невзначай согрешившая монахиня, с тех пор обречена была хранить память о скороспелой и такой яростной любви. В ее старых зеркалах навеки отразились бледные от страсти лица, свившиеся в клубок тела…