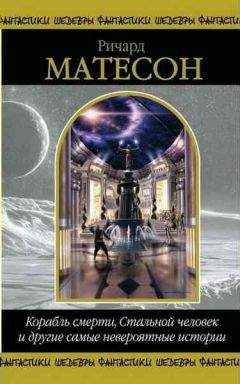Станислав Лем - Высокий замок
На более низких полках почивали кучи растрепанных, поразорванных французских романов без обложек и каких-то журналов; один – на немецком языке – назывался «Uhu».[7] То, что я мог прочесть названия, не помогает мне установить хронологию этих начинаний, поскольку печатный шрифт я умел читать уже в четыре года. Я только листал рассыпающиеся, сброшюрованные французские романы, так как в них были иллюстрации достаточно фривольные, в стиле fin de siecle.[8] Вероятно, там были напечатаны какие-то пикантные историйки, но это вывод современный, более поздняя реконструкция, опирающаяся на воспоминания, уже сильно размытые влиянием времени. На одних страницах были видны дамы и господа в изысканных светских позах, а несколькими страницами дальше эта галантность вдруг уступала место утопающей в кружевах наготе, кто-то убегал через окно, теряя брюки, нагие дамы в длинных черных чулках бегали по комнате; теперь я вижу, что соседство обоих видов книжек было достаточно своеобразным, а сам порядок, в котором я все это листал, был тоже достаточно забавен, забавен до ужаса, коль скоро я, наездник на кресле, без всяких хлопот или колебаний, ничтоже сумняшеся, переходил от скелетов к фривольной эротике. Как бы там ни было, я воспринимал все это так же, как принимал облака, деревья; ведь я все еще всему учился, ко всему должен был привыкать, и ничто у меня, собственно, ни с чем не вступало в диссонанс.
На книжной полке лежала длинная жестяная труба с широким концом, из нее торчал рулон плотной желтоватой бумаги, от которой шел плетеный черно-желтый шнур, заканчивающийся плоской коробочкой, содержащей в себе как бы маленький светло-красный пряник с выпуклым изображением и надписями. Это был докторский диплом отца на пергаменте, возвышенно начинающийся отпечатанными огромными буквами словами: «SUMMIS AUSPICIIS IMPERATORIS AC REGIS FRANCISCIIOSEPHI…»,[9] пряник же, который я осторожненько раза два пытался надкусить, но больше не пробовал, так как он был невкусный, представлял собой большую восковую печать Львовского университета. Разумеется, вначале я знал лишь, что в трубе хранится диплом (мне это сказал отец, хоть я и не понимал, что это значит), который мне запрещалось вынимать из трубы (при этом я не очень-то верил, что пергамент действительно сделан из обработанной ослиной кожи). Позже я уже мог прочесть несколько слов, ничего, однако, не понимая. В первом, кажется, классе гимназии я уже мог перевести эти возвышенные слова; я говорю об этом потому, что на примере диплома отчетливо виден тот процесс возобновляемого и многократного познавания предметов и явлений, с помощью которого я постепенно как бы переходил с этажа на этаж; каждый раз я узнавал очередную версию явления или вещи, что само по себе не представляет ничего необычного. Каждый это знает, ибо, знакомясь с историей собственного происхождения, любой из нас вначале познает «версию аиста», а уж потом вторую, более реалистичную. Но дело в том, что все предыдущие версии, даже явно фальшивые, как, например, «версия аиста», не исчезают бесследно, отброшенные. Что-то от них в нас остается, сливается с последующими, смешивается, одним словом, как-то продолжает существовать. Конечно, если говорить о фактах вроде диплома моего отца, то нетрудно установить истинную версию, ту единственную, которая соответствовала истине. Иначе обстоит дело с переживаниями. У каждого из них свой вес и своя правда, безапелляционная и ни от чего, кроме себя самой, не зависящая, и в этом вся беда, поскольку единственным стражем и гарантом их истинности в воспоминаниях является память. Конечно, можно бы отметить, что существуют «переживания неадекватные», вроде моих измышлений, касавшихся черного железного сундука. Однако не всегда удается сделать столь окончательный вывод.
За боковой створкой двери в отцовской библиотеке находились плотно уложенные книги, к которым я даже не приступал, убедившись однажды, что картинок там нет. Я лишь помню цвет и вес некоторых из них, не более. Многое бы я дал за то, чтобы узнать, что же собрал там мой отец, но библиотека полностью погибла во время войны, и от нее не осталось и следа, а потом творилось такое и столько, что было просто некогда разбираться в этом. Поэтому версия, созданная ребенком, примитивная, неверная, собственно, никакая, должна стать для меня единственной, и это относится не только к книгам, но и ко множеству событий, подчас драматичных, которые разыгрывались над моей головой. Если бы я пытался их реконструировать задним числом, делать выводы и строить домыслы, это превратилось бы в рискованный труд, – кто знает, не нафантазировал ли бы я к тому же уже не как ребенок. Поэтому, я думаю, мне надо отказаться от подобного намерения.
В столовой, как я уже говорил, кроме разношерстных стульев и стола, раздвигаемого во время больших приемов, стоял солидный буфет, средоточие сладостей, этажерка с «нипами»,[10] специальностью матери, а под окном лежал пушистый ковер, на котором немного позже я охотно валялся, читая книги, – уже купленные специально для меня. Поскольку, однако, чтение было действием весьма пассивным и слишком простым, я имел обычай ставить себе на лодыжку, в углубление под коленом, на подошву ступни ножку какого-нибудь стула и легкими движениями балансировал им так, чтобы он все время оставался в состоянии неустойчивого равновесия, на самой его границе. Мне неоднократно приходилось резко прерывать чтение, чтобы поймать падающий стул, иначе его грохот мог совсем нежелательно привлечь ко мне внимание домашних. Впрочем, я слишком забежал вперед, чего мне очень трудно систематически избегать.
Насколько я помню, я довольно часто болел. Меня загоняли в постель различные ангины, бронхиты, и в принципе это было время величайших привилегий. Не только все вокруг меня кружилось, не только отец особо подробно выпытывал меня о самочувствии, используя при этом определенные признаки и показатели, которые должны были с исключительной точностью определить качество моего самочувствия в выдуманных градусах несуществующей шкалы, но, кроме того, я был объектом сложнейших процедур. Не все я относил к приятным. Например, трудно было назвать таковыми питье горячего молока с маслом, но вот ингаляции становились для меня воодушевляющим развлечением. Прежде всего приносили большой таз, в который наливали горячую воду, затем отец из маленькой бутылочки с притертой пробкой добавлял туда немного маслянистой жидкости и шел на кухню, где тем временем уже раскаляли докрасна на огне чугунный кружок кухонной плиты. Отец брал его щипцами и, внеся в комнату, опускал в таз, а в мои обязанности входило старательно вдыхать клубы пара, пахнущие ароматным маслом. Отличнейшее это было зрелище – бешеное кипение воды, шипение раскаленного докрасна железа, от которого отпадали почерневшие крошки окалины, а вдобавок ко всему я еще старался воспользоваться оказией и запустить в таз что только под руку попадало: например, целлулоидную утку или деревянный пенал. Надеюсь, я не симулировал страданий, когда их не было. Впрочем, видимо, такого рода попытки все-таки были. Их просто не могло не быть, коль мне, как больному, отец ни в чем не мог отказать: и птичка в перламутровой коробочке тогда пела для меня, и золотыми очками с рубиновыми стеклышками я мог играть, и еще, возвращаясь из больницы, отец приносил так называемые «узелки» с игрушками. Посему без всякого преувеличения я могу сказать, что наподобие некоторых дам наибольшие выгоды я получал, лежа в постели. В результате одной из ангин мне достался автомобиль-гигант, деревянный лимузин таких размеров, что я мог ездить на нем верхом, сидя на крыше. Правда, более серьезные болезни, вроде камня, выросшего у меня в пузыре, с их болями и температурой, делали все подарки и игры недостаточной усладой бытия. Однако так или иначе я всегда выздоравливал. Будучи здоровым, я большую часть времени проводил наедине с собой. Я охотно исследовал квартиру, ползая на четвереньках. По непонятным причинам максимальное удовольствие мне доставляло чувствовать себя каким-нибудь воображаемым животным, и этой игрой я занимался так рьяно, что на коленках у меня выросли толстые, твердые мозоли, которые сохранились еще в то время, когда я ходил в старшие классы начальной школы.