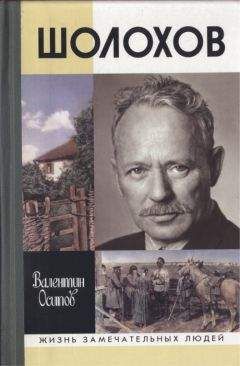Андрей Воронцов - Шолохов
Шолоховы, как и все, с леденящим страхом ожидали наступления сумерек, жгли лампаду под образами, молились, чтобы не забрали Александра Михайловича. Жили они в ту пору на хуторе Плешакове, снимали половину куреня у братьев Дроздовых, Алексея и Павла. Павел пришел с германской офицером. Братья, как только начались аресты, пропали неведомо куда. За ними уже приезжали из Еланской станицы чекисты, долго, с подозрением расспрашивали Александра Михайловича, кто он таков, потом ушли, перед уходом бросив: «Может, свидимся еще…» А у отца были теперь основания бояться таких свиданий, даром что не казак. В самом начале 17-го года получил он наследство от матери своей, купчихи Марии Васильевны, урожденной Моховой, да не маленькое — 70 тысяч целковых. Служил в ту пору Александр Михайлович управляющим паровой мельницы в Плешакове, и решил он выкупить ее вместе с просорушкой и кузней у хозяина, еланского купца Ивана Симонова. Между тем разразилась Февральская революция. Отцу бы задуматься, что не те времена наступили, чтобы собственностью обзаводиться, но он слишком долго мечтал иметь свое дело. А предусмотрительный Симонов, напротив, не ждал от Февраля ничего хорошего, без сожаления продал мельницу, получил деньги и был таков. И стал Александр Михайлович для советской власти — «буржуй», а их теперь забирали наряду с казаками, служившими в Донской армии. Купцы побогаче откупались, платили «контрибуцию». А что мог заплатить отец, если все деньги отдал на мельницу, а новых за эти смутные два года не сумел заработать? Правда, на плешаковской мельнице работал до революции машинистом тайный большевик (причем из казаков) Иван Алексеевич Сердинов, ныне председатель Еланского ревкома, и он обещал отцу, что его не тронут, так как, будучи управляющим, Александр Михайлович сквозь пальцы смотрел на увлечение рабочих мельницы недозволенной литературой. Но все знали, что в Еланской станице заправляет не столько Сердинов, сколько чернобородый, с красными глазами навыкате, комиссар Резник, бывший слесарь с той же мельницы, отправленный при царе на каторгу за «пропаганду». Резник непримиримо относился к казачьему «кумовству и сватовству», а Иван Алексеевич его побаивался, так как о Резнике шла слава, что он лично знает товарищей Троцкого и Свердлова, и всегда ему уступал, забывая о кумах и сватах, если комиссар расширял списки подлежащих аресту. Например, Сердинов не протестовал, когда Резник велел арестовать вместе с Павлом Дроздовым его младшего брата, Алексея, служившего у самого Подтелкова. Как же было ожидать снисхождения Александру Михайловичу, «буржую» и сыну «буржуя»?
Вот и тянулись для Шолоховых сплошной черной полосой страха февральские ночи, а тусклых дней, со звенящей от недосыпа головой, было и не припомнить. Дождались они, едва не получив разрыв сердца, и второго страшного стука карателей в дверь дроздовского куреня — но забрали в этот раз не Александра Михайловича, а старого деда Филиппа Дроздова.
Взрослые старались без крайней необходимости за плетень не выходить — Александр Михайлович, чтобы лишний раз не напоминать о себе, а красивые, хотя и разной красотой, дородная Анастасия Даниловна и тонкая, гибкая Марья, жена Павла Дроздова, — чтобы не соблазнять истомившихся по бабам мужиков-красноармейцев, весьма охочих до казачек. Бегали как ни в чем не бывало по пустым, точно заколдованным злым волшебником улицам (даже дымки над трубами казались недвижимыми) только Миша да его дружки. Встречались, впрочем, им порой и хуторяне — везли на погост хоронить кормильца… И все — в давящей, сжимающей сердце тишине, прерываемой лишь глухими рыданиями баб.
Напрасно красный казак Миронов убеждал Москву, сколь гибельное дело не только для Дона, но и для нее самой она затеяла: кровь пьянила, успехи карательных отрядов внушали безграничную веру во всевластие пули и веревки, такое быстрое по сравнению с утомительной тактикой 17-го года — кнута и пряника. Даже гибель кожаного Свердлова, забитого до полусмерти на митинге в Орле казаками красных полков, узнавшими о том, что делается у них дома, на Дону, в то время как их заставляют проливать кровь за советскую власть, не образумила вознесенных на вершину власти людей.
Гнетущая тишина в донских станицах взорвалась в конце февраля. В страшный час, когда везли за околицу приговоренных, раздался над Плешаковым одиночный выстрел, и сразу же, как по команде, пачками и вразнобой затрещала сумасшедшая пальба. И полетело по улочкам уже забытое казачье гиканье, заметались тени верховых, молниями засверкали шашки над их головами. Затарахтел было, спеша, пулемет, но тут же захлебнулся. Красноармейцы, не успевшие организовать оборону, бежали к хуторскому правлению, где их рубили наскакивающие, казалось, со всех сторон всадники. Дело было кончено еще до рассвета. За окном, к которому припал лицом Миша, вопреки настояниям матери, всхрапывали уставшие лошади, глухо чмокали их копыта, возбужденно матерились казаки.
Дверь дроздовской хаты распахнулась настежь, и вошел сам хозяин, хорунжий Павел Дроздов, небольшого роста, курносый, с пышными пшеничными усами. Зубы его были оскалены, глаза смотрели в одну точку. В правой руке он держал окровавленную шашку, в левой — сорванный где-то с древка красный флаг. Дроздов вытер шашку о флаг, бросил его в угол (Анастасия Даниловна вздрогнула), а шашку с лязганьем вогнал в ножны.
— Паша! — всплеснув руками, закричала Марья. Тонкая, выше мужа на голову, она кинулась к нему на шею, повисла на ней, поджав ноги.
Павел чуток пошатнулся, подхватил жену под спину, прижал ее лицо к грязному полушубку.
— Ну вот и все, — сказал он. — Хана красномордым. Даешь казачьи Советы без комиссаров! Ну, будя, будя…
Вслед за Павлом хата наполнилась гомонящими, пропахшими потом и порохом казаками. Запыхавшаяся Марья тащила откуда-то, покраснев от натуги, ведерную бутыль с самогонкой, казаки пили, не раздеваясь, но не забыв перекреститься, жадно хрустели огурцами. Притопал и посиневший от холода в подвале Чеки дед Дроздов, которому посчастливилось остаться в живых, и сразу, ни слова не говоря, полез на печь. Засиживаться казаки не стали. Павел здесь же, в чадящем свете коптилки, провел совет и послал гонца в соседний хутор Кривский, который тоже восстал, с приказом тамошним казакам идти походным порядком вслед за ним на станицу Еланскую.
Недолго воевал Павел… Смерти, запущенной по донским хатам Троцким и Свердловым, было точно все равно, чья теперь на Верхнем Дону власть, она не хотела останавливаться. Она обошла дроздовский курень во время «расказачивания», но теперь вернулась быстро, словно оставил ей Павел в углу своей хаты кровавую приманку… Анастасия Даниловна сразу же сожгла в печке тот флаг, как сжигают в церкви отслуживший свой срок красный плат, которым вытирают губы православным после Причастия, да, видать, смерть не флаг, в огне не горит… Чуть больше недели прошло, как вспыхнуло восстание, а дроздовскую сотню разбили красные под командованием Сердинова в Вилтовом яру, у хутора Кривского. Пленных не брали.