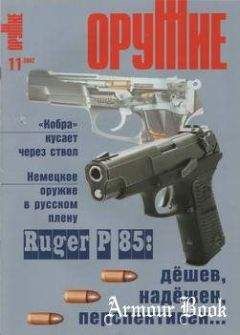Валентин Медведев - Чтобы ветер в лицо
…Ручеек на дне оврага оказался совсем не таким, каким она видела его с вершины. Легко, без разбега перешагнула, ступила на тропинку и пошла, не оглядываясь, к школьному стрельбищу, навстречу ласковому, весеннему ветерку.
Дар Ивана ТихоновичаПоследняя школьная ночь. Последний заход к старшине за сухим дорожным пайком. Все сегодня последнее. И мигалка, спаренная со звонком, в последний раз просигналит свою световую морзянку… Утром в дальнюю дорогу. На какой фронт, в какую армию, будут ли они все вместе или разбредутся по батальонам, по полкам, группами, парами, того никто не знает. Пробовали выведать у офицеров, и там ничего путного.
С Екимовой так уговорились: только вместе. Конечно, армия это не школьный класс, где каждый может выбрать себе парту и место, с кем сидеть. Но все-таки они будут добиваться своего. Так условились.
Шумная Саша Екимова вбежала в казарму с какой-то сногсшибательной новостью. У нее всегда так. Все свои «в последнюю минуту» Саша выкладывает с шумом, с громом, с грохотом. Лицо совсем округлилось, глаза горят, венчик из кос завалился набок. Оглянулась по сторонам, потом шепотом:
— На Первый Украинский, девчонки, честное комсомольское!
— Точно? — спросила Вдовина.
Немного поостыв, угомонившись, Саша пробормотала:
— Похоже, что туда. На столе дежурного видела.
— Что видела?
— Ну что, ну карту видела, — отмахнулась Саша.
— И что?
— А вот то, — жестко ответила Саша. — На той карте Первый Украинский красным карандашом обведен, в кружочке, это понимать надо.
Лида Вдовина рассмеялась.
— Сашенька, глупенькая, родненькая, да там наступление идет, это наши офицеры карандашиком, а ты подумала…
— А почему наши документы там, с картой рядышком? — не сдается Саша.
— А потому что это штаб. Приветик, Сашенька, до скорой встречи, Сашенька, на энском фронте.
Девушки разошлись. Только они с Сашей в казарме остались.
— Ну ты подумай, Роза, — тихо говорит Саша, — ну подумай сама, а почему это там другие фронты без кружочков. Там ведь тоже наступают…
Чья-то рука легко опустилась на плечо. Оглянулась, глазам своим не верит. Ну когда это было видно, чтобы Тихоныч так приветливо улыбался. Будто подменили человека. И глаза у него какие-то не такие, прищуренные, добрые.
— Ты, Шанина, вот что, ты зайди ко мне, быстренько, чемоданчик потом соберешь, успеется.
Чуточку мягче стал старшина совсем недавно, вот с того дня, когда перед строем зачитывали приказ о выпуске. Все-таки привык Тихоныч к девушкам, и зря думали они, что человек отродясь не улыбался. Годы взяли свое. Три войны, три ранения да, может быть, еще что-нибудь другое, разве станет рассказывать человек каждому встречному, что у него на душе.
В каптерке на столике она увидела фанерный ящичек, старательно окантованный железными полосками, рядом листок бумаги, химический карандаш и консервную банку с водой.
— Пиши!
Взглянула на старшину удивленно.
— Пиши, — твердо повторил Тихоныч, — пиши, значит, так: город Архангельск, ну и все прочее.
— А что… прочее? — спросила она.
— Ну, значит, это самое, адресок твоего садика, ну и фамилию твоей хозяйки, или, как там у вас, директора, что ли. Пиши, пиши, только разборчиво… Ну что так уставилась? Удивительно, откуда мне известно? Да я, брат ты мой, если знать хочешь, в кадровом вопросе не хуже, чем в этом вот, в стеллаже своем разбираюсь. Пиши, пиши.
Старшина положил листок на ящичек, хлопнул по листку огромной ладонью, потом спросил, как там в ее садике в смысле сластей, и сам же ответил, что, наверное, не богато, потому что война никого не обошла, всю жизнь перекорежила. Тихоныч говорил, а она гадала, откуда старшина знает о ее садике, о ребятишках ее. Вдруг вспомнила. Это было зимой, старшина печи растапливал в казарме, она рассказывала подругам о своих малышах, о Леночке, а совсем недавно, когда она зашла в каптерку за беретом, спросил между прочим, как там живут ее ребятишки, что пишут из садика…
Старшина объявил торжественно:
— Три кило сахарку в этой таре. Грамм в грамм.
Бережно поставил ящичек на свою койку, отошел в сторону и, не отводя глаз от посылки, спросил:
— Толково у нас с тобой получилось?
— Ага, — сказала она, потому что теперь ее мысли были далеко-далеко от каптерки, у самого берега Белого моря, там, наверху, в просторной комнате ее малышовой, суточной группы. Видно, не пришелся ему по душе такой неопределенный ответ. Нахмурился Тихоныч, вздохнул шумно.
— Что «ага»? Думаешь — старшина, так он это самое, не сказать бы худого слова при девушке, так он, значит, наскреб, поживился солдатским добром? Я, Шанина, сколько уже на своем участке нахожусь, из брюха выдеру у того человека, который казенное добро себе приберег, а ты «ага-ага!», — проворчал Тихоныч. — Вот слушай, что я скажу. Сахаром не пользуюсь. Не принимаю. У меня такая болезнь, что сладостей никаких не положено. Полковник наш знает. Сахар свой комплектую самым законным образом и одну тысячу пятьсот граммов отсылаю в Омск, Ольге Тихоновне, сестре. В январе моя Ольга Тихоновна у сына своего гостила. Не посылал. Теперь она снова в отъезде, к брату, забралась, за Хабаровск. А там пасека, мед свой. В общем — терпимо, проживет Ольга Тихоновна. А твои пацанята не проживут, без сладкого ребенку нельзя.
Она молчала, потому что, когда слезы подкатываются к глазам, надо молчать. Тогда все проходит.
Горький хлеб
Машины остановились у контрольно-пропускного пункта. Солдаты проверили документы, заглянули в кузова. Какой-то веселый крикнул:
— Привет, красавицы! Санбатам пополнение?
Другой, тоже веселый, уточнил:
— Наши! Пехота. С винтовочками.
— Ты смотри! — ахнул солдат. — Винтовочки с оптическими прицелами!
Хрюкнули тормоза, машины отчалили от КПП и, набирая скорость, пошли в сторону минской магистрали. Теперь-то уже не надо было гадать да ломать голову, куда ведет путь-дорожка. Пусть говорят, что нынче все направления главные, что все фронтовые дороги на Берлин ведут, все-таки эта, минская, короче других. И прямее. Потому она и самая главная…
Для кого война начинается с траншеи переднего края, для кого издалека, с мертвого покоя стародавних ее следов. На каждом метре минской магистрали отметины свежих боев: ржавые останки машин в кюветах, залитые водой воронки, давно покинутые землянки, траншеи, страшные пепелища, поля в бурьяне. Потом стали попадаться указатели дорог на госпитали, медсанбаты и в разные другие хозяйства. И вот — Ерши.