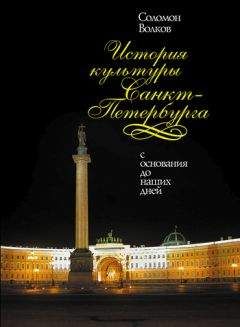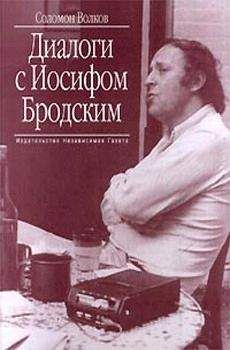Ольга Эдельман - Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин в исторических источниках
Сталин под видом нежелания «выпячивать» свою личность пресекал излишнее любопытство касательно своего прошлого, заодно оставляя себе возможность отбирать то, что он сам считал годным для печати. Таким образом, снималась проблема соответствия между неумеренными славословиями, восхвалением выдающейся роли вождя и значительно более скромной исторической реальностью: последней предстояло пока пылиться в архиве.
В делах сталинского архива сохранилось значительное количество образчиков представленных на согласование текстов о нем с его резолюциями[28]. Иногда он кратко, но выразительно мотивировал свое решение, как, например, случилось с опусом его детского приятеля Г. Елисабедашвили, решившего написать о детстве и юности Сосо Джугашвили: «Против опубликования. Кроме всего прочего, автор безбожно наврал. И. Сталин»[29]. Но главный мотив этих резолюций сводился к ссылкам на базовые тезисы русского марксизма о партии и роли личности в истории: «Зря распространяетесь о “вожде”. Это не хорошо и, пожалуй, не прилично! Не в “вожде” дело, а в коллективном руководителе – в ЦК партии»; «Упоминания о Сталине надо исключить. Вместо Сталина следовало бы поставить ЦК партии»[30].
Исследователи фонда Сталина полагают, что даже при формировании своего секретного до поры архива он тщательно следил за тем, как эти материалы будут обрисовывать его образ, и заботился о создании впечатления скромности и нелюбви к избыточной лести[31]. Впрочем, заглянув в некоторые из отвергнутых им сочинений, нельзя не заметить, что Сталин не был лишен определенного чувства меры и отказывался выпускать в свет тексты действительно опрометчивые, нелепые или не учитывавшие нюансы столь тщательно продуманного образа. По-видимому, предпочтительны были тексты, восхваляющие Сталина в рамках современности, привязанные к текущим событиям, ретроспективные же вкрапления не поощрялись, тщательно отбирались и дозировались. Среди отвергнутых рукописей имеются, например, книги о детстве и юности вождя, ориентированные на детскую аудиторию (как упомянутая работа Елисабедашвили, а также книга другого его детского друга П. Капанадзе[32]).
Стоит обратить внимание, что художественнодокументальная литература, посвященная молодому Сталину, не поощрялась. Мы не найдем о нем того количества назидательных рассказов для детей, документальных повестей о похождениях большевика-подпольщика, вообще беллетризованных его биографий, какими изобиловал насаждавшийся в позднем СССР культ Ленина или какие писались о других известных большевиках (вспомним хотя бы многократно переизданную повесть А. Голубевой «Мальчик из Уржума» о юном Кирове). Полагаю, что в этом контексте следует рассматривать и запрещение пьесы М.А. Булгакова «Батум»: дело было не столько в конкретных промахах автора или отношении к нему Сталина, сколько в нежелательности самого биографического жанра.
Очевидно, Сталин прекрасно понимал, что чем больше подробностей из его прошлого окажется достоянием публики, чем больше они будут муссироваться даже в апологетическом ключе, тем больше риск, что пытливые читатели заметят какие-то несоответствия и несообразности. Вопрос о полной, подробной биографии был им снят. Вместо этого появилась «Краткая биография» (1939) – этот текст стал основой пропагандистского освещения темы[33], а также несколько эталонных работ, задававших тон и сообщавших тот набор фактов, которыми и следовало впредь оперировать. Это в первую очередь обнародованный под именем Л.П. Берии доклад «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» (1935)[34]. Примечательно, что он составлен именно как рассказ о партийной истории, а не лично о Сталине – в полном соответствии с его требованием к соратникам быть скромнее и не забывать о том, что главными действующими лицами революционной борьбы были большевистская партия и ее ЦК. Вместе с тем доклад Берии представлял собой официальную трактовку наиболее спорного периода деятельности Иосифа Джугашвили.
Можно назвать еще все-таки написанную книгу Емельяна Ярославского «О товарище Сталине» (1939) или книгу Анри Барбюса, которому как иностранцу даже были позволены маленькие вольности в трактовке событий. Впрочем, дело было не только в его статусе сочувствующего иностранца. Проблема состояла в том, что даже при тщательном отборе и дозировании фактов не удавалось добиться единообразия изложений биографии вождя.
Приведу один пример. В январе 1904 года Иосиф Джугашвили бежал из сибирской ссылки. Доклад Берии и биографическая хроника в собрании сочинений Сталина лаконично сообщают, что он приехал в Тифлис и вернулся к революционной работе[35]. На самом же деле сначала он поехал в Батум, но вернуться там к подпольной работе ему не удалось. Мы можем лишь гадать, было ли упоминание об этом опущено в бериевском докладе как мелкое и несущественное или же составители сочли, что тут просматривался бы неприятный намек на неудачу Сталина в Батуме и еще какие-то сопряженные с ней обстоятельства. В то же время совсем запретным этот эпизод не был, он присутствует в сборниках воспоминаний революционных рабочих о Сталине, а со ссылкой на них – в книге Е. Ярославского[36]. Но тот же Ярославский в своем курсе лекций по истории ВКП(б), изданном в 1947 году, обнародовал и совершенно другую версию: «Из Сибири товарищ Сталин поехал за границу, в Лейпциг, где встретился с товарищами по совместной работе в Закавказье. В Лейпциге в декабре 1900 г. вышел первый номер ленинской “Искры”. Затем Сталин поехал в Россию, в Батум»[37].
Я могу указать на источник, послуживший, вероятно, Ярославскому для формулирования этой версии: протокол допроса И.В. Джугашвили в Баку 1 апреля 1908 года. Он заявил жандармскому поручику Боровкову, что, бежав из ссылки, сразу же отправился в Лейпциг, где провел около 11 месяцев, причем далее, на том же допросе, уточнил, что вернулся в Россию после манифеста 17 октября 1905 года и жил в Лейпциге «более года»[38]. Конечно же, это было откровенное вранье с целью избежать ответственности и не давать показаний о событиях 1905 года. Никто Джугашвили в Лейпциге не видел, никаких свидетельств, подтверждающих эту поездку, не существует. Ярославский, неплохо осведомленный о партийных делах, не мог не знать, что Сталин не был в Лейпциге в 1904–1905 годах. И все же эта версия, очевидно, показалась ему привлекательной, ибо, развивая ее, можно было отнести к этому времени знакомство Сталина с Лениным и, стало быть, изобразить его более близким ленинским соратником. Не зря в процитированном отрывке появилось упоминание об издании в Лейпциге первого номера «Искры». Ярославский, однако, поступил опрометчиво. Сталин еще в январе 1924 года, выступая перед кремлевскими курсантами, рассказал, что впервые увидел Ленина на Таммерфорской конференции в декабре 1905 года, и эта его речь была опубликована[39]. В сравнении с текстом Ярославского получалось, что Сталин, прожив столько времени за границей, так и не встретился с Лениным, а это выглядело уж совсем неуместно. И все же, несмотря на столь явное противоречие, процитированный пассаж появился в 1947 году при переиздании текста Ярославского, причем в более ранних вариантах его лекций, увидевших свет в 1933 и 1934 годах, ни этого эпизода, ни вообще повышенного