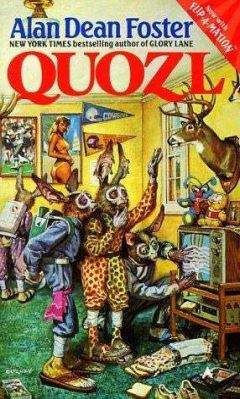Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
Мы с братом стояли, вцепившись в материнскую юбку, и слышали, как высокомерно и нагло нацисты разговаривают с моим отцом, как они его унижают. Он больше не был процветающим и уважаемым промышленником, он был для них просто «грязным евреем», а не высокообразованным и красноречивым гражданином, известным всему Франкфурту. «Грязный еврей». Любой болван в армейской форме мог избить его или даже убить, если бы ему этого захотелось. Один из солдат так и решил: «Прикончить этого грязного еврея! — закричал он. — Это приказ!», — и стволы ружей оказались направлены на нас. Я была уверена, что нам пришел конец.
Я уже слышала отчетливо звуки летящих в нас пуль. Вцепившись в маму, я закричала. Отец сделал шаг и встал между солдатами и нами, как если бы он и вправду думал, что своим телом сможет защитить нас от пуль. Мы все дрожали от ужаса; глядя на нас, солдаты веселились от души. Для них это был спектакль. «Ты только послушай, что эти грязные еврейские свиньи бормочут…» — говорили они.
В конце концов один из них произнес: «А, пусть убираются!» Может быть, это был сержант, я не помню, но я навсегда запомнила то, как он сказал это. Не добродушно, даже не милостиво, а с таким презрением, словно мы недостойны были даже пули. Солдаты забрались обратно в грузовик и отбыли, хохоча во все горло. Я запомнила этот день на всю жизнь. Чувство облегчения, что мы спаслись, не в силах было стереть из памяти ужас от возможной расправы. После этого случая моя жизнь уже никогда не была такой, как прежде.
Больше мы никогда уже не ездили на пикники в Таунус. Безмятежный мир моего детства был самым жестоким образом разбит. И это был только первый раз из многих, последовавших затем, когда моя жизнь зависела от прихоти какого-нибудь солдата. И даже сейчас, если я сижу в машине и кто-нибудь спросит меня, какой маршрут я предпочитаю, то я не могу ответить, словно меня разбил паралич. Этот невинный вопрос наполняет меня ужасом. Внезапно я снова превращаюсь в маленькую девочку, и штурмовики подстерегают меня за поворотом. Это говорит во мне не память о пережитом страхе, это мой страх в его чистом виде, ожидающий, что я где-то ошибусь.
Одного столкновения со смертью достаточно, чтобы оставить в человеке след на всю оставшуюся жизнь. То, о чем я рассказала, было только первым случаем, другие последовали вскоре. В гетто не проходило и дня, чтобы кто-то не расстался с жизнью, не был убит. Любой немецкий солдат, переходящий улицу, мог пристрелить еврея, если тот ему чем-то не понравился. И часто так и было. У нацистов была узаконенная квота ежедневных убийств. Во время внезапных облав, селекций, обысков, проверок. По любому поводу и без повода вообще, было бы желание. Я научилась мило улыбаться солдатам, которые могли меня застрелить, надеясь, что это подействует как-то и они меня не тронут. До сих пор это срабатывало…
Наша вторая попытка пройти сортировку неотвратимо приближалась. Врач внимательно посмотрел на меня. Я улыбнулась ему, как могла, глядя прямо в глаза и пытаясь понять, узнал ли он меня. Но я ничего не поняла из его пристального взгляда. Похоже, ему и в голову не пришло, что он нас мог уже видеть. Ведь мы не были для него людьми.
И снова я была послана направо, куда вслед за мной последовала моя мать — туда, где в очередную колонну строились женщины для отправки в трудовой лагерь. Я победила! Моя мама снова была со мной. Мы стояли, трепеща, в шеренге с другими женщинами, мы были членами рабочей бригады, нам удалось избежать сегодня казни. Но не надо думать, что нас переполняла радость. Нас переполнял страх.
Глава вторая
ОТ ЛЕДЯНОГО ПОГРЕБА К МОСТУ
Когда я оглядываюсь на время моей молодости, то вижу, что на каждом шагу я что-нибудь теряла. К тому времени, как я оказалась в концлагере Штуттгофа, я уже потеряла почти все, что было можно: мой дом, моего отца, моих дедушку и бабушку, дядьев и тетушек, мой родной язык и культуру. Я думаю обо всех этих потерях и таким образом пробую воскресить часть этого утраченного мира хотя бы в моей памяти и тем самым вернуть их к жизни.
Когда мне исполнилось шесть лет, наша семья вынуждена была переехать из Франкфурта в Мемель. Тем не менее мои родители сделали все, чтобы дети жили в обстановке благополучия и безопасности — даже после того, как Россия оккупировала Литву. Но детство мое закончилось довольно мрачно — в леднике, среди мясных туш, висевших на острых крюках.
Разумеется, потрясший меня инцидент во время воскресного пикника в живописном Таунусе, когда немецкие солдаты едва не расстреляли всю нашу семью только за то, что мы были евреями, бросил тень на всю, казавшуюся незыблемой, безопасность моего детства. Я была слишком маленькая, чтобы выразить это посредством слов, но я поняла: правила, по которым до сих пор жил мир, изменились необратимо. До этого времени я верила в то, чему меня учили, а именно, что Бог защищает нас от бед и несчастий, если мы творим добро. Теперь же я поняла и узнала, что даже добрые и невинные люди могут быть расстреляны совершенно хладнокровно, если какой-то солдат захочет это сделать.
Мое раннее детство во Франкфурте в Германии протекало абсолютно безмятежно. Мой отец, Филипп Симон, был тому гарантией. Когда я была совсем малышкой, я думала о себе как о папиной дочке. Он был традиционный, ортодоксальный немецкий еврей старой школы. Его отец был в свое время раввином в Мемеле, портовом городе на побережье Балтийского моря, которое и стало конечным пунктом нашего бегства. В детском возрасте мой отец твердо выучил и усвоил, что такое хорошо, а что плохо, и никогда потом больше в этом не сомневался. То, во что он верил, он старался самым лучшим образом передать своим детям, являя пример, достойный подражания.
Кроме того, отец был на десять лет старше моей матери. Выглядел он при этом человеком утонченным и строгим, даже чопорным.
Невысокого роста, коренастый, всегда одетый в деловой костюм, всегда при галстуке и всегда с трубкой во рту. Держался он с большим достоинством. Будучи главой семьи и кормильцем, он прилагал все усилия, чтобы оградить мою мать от любых неприятностей и невзгод. Свои обязательства он нес столь серьезно, что я чувствовала себя виноватой, ибо все бремя ответственности за нас он взвалил на свои плечи. Со старомодной уверенностью в своих ценностях отец задавал тон всей нашей семейной жизни. Человек он был строгий, но сейчас я вспоминаю о его строгости с большой любовью. Если бы только мы, его дети, смогли вырасти в атмосфере того мира, который он хотел бы создать для нас! Но история повергла в прах его мир, и никакая сила не смогла бы подготовить нас к встрече с тем, с чем мы столкнулись лицом к лицу.