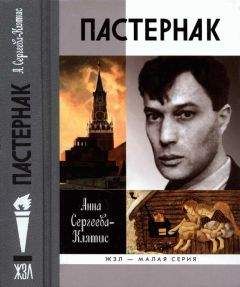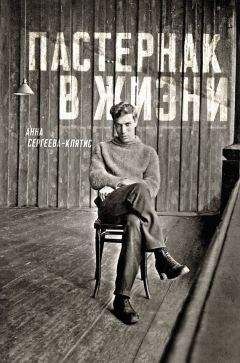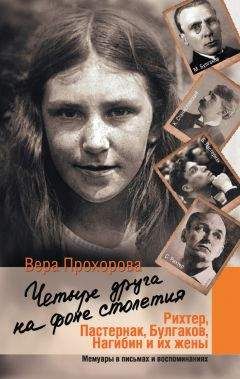Игорь Оболенский - Четыре друга эпохи. Мемуары на фоне столетия
Я находился под таким впечатлением от увиденного, что задал писателю вопрос: возможно ли повторение ГУЛАГа?
— Вряд ли, — произнес Даниил Александрович, облокотившись на высокий столик и бросая в стакан с чаем куски сахара. — Для того чтобы лагеря вновь возродились, нужна не только тоталитарная система, нужна идеология. А нынешняя идеология все-таки довольно демократична. Усилия демократов, какие бы ошибки они ни допустили, не пропали даром.
Человеческая психика так устроена, что мы не умеем сопоставлять себя с теми, какими были лет двадцать назад. Мы живем только будущим. Недостаток нашей истории в том, что она должна состоять не только из политических и экономических событий, но и из чувствований и настроений. Именно чувствования и настроения и определяют очень многое.
Возможен ли фашизм? Вот он возможен. Пусть и другого рода. Возможны разные варианты. Например, распад России. Сейчас сильно возросли центробежные силы. Раньше существовало понятие «советский человек», которое скрепляло людей. Не было понятия «башкир» или «эстонец». А теперь они появились.
У всех краев и республик разное экономическое положение. Обнажилась разница экономических интересов. И они стали разносить Россию. Что скрепляет ее? Трудно сказать. Но уж никак не рубль. Ведь вместо рубля можно ввести новую единицу. Тем более есть области, где людям не платят денег. Вот мы сейчас с вами ехали в поезде и видели, как народ пытался продать хрусталь. Потому что ему дают зарплату в форме хрусталя.
Сегодня, когда я готовил расшифровку разговоров с Граниным к печати, за окном уже, конечно, совсем другие времена. Многое изменилось. Но я решил оставить записи наших бесед без купюр, ибо слова писателя — уже история, которая, может быть, поможет кому-то лучше понять наше прошлое.
Ну а тогда все происходящее было в настоящем. Возвращаясь из соловецкой чайной, мы нагнали группу и вниманием Гранина завладели другие. Но и я отступать от него не собирался. Поговорить мы решили уже в Архангельске, посещение которого было финальной точкой нашей поездки. Когда все члены делегации отправились гулять по городу, я постучал в дверь гостиничного номера Гранина.
Первым делом решил спросить про писательство. С кем же говорить про это, как не с маститым Граниным, которого давно принято считать классиком советской литературы?
Судя по всему, первый вопрос был задан правильно. Ибо, начав отвечать на него, Гранин прочел мне целую лекцию о том, что такое писательство и жизнь человека вообще.
— Я всегда хотел быть писателем. И всегда знал, что им стану и буду очень известным. Это было такое внутреннее, тайное ощущение, которого я стыдился. Сейчас могу сказать об этом открыто. У меня было немало неудач, я в литературу входил трудно. Но уверенность в том, что все будет хорошо, присутствовала всегда.
У меня ведь было большое преимущество: я имел свою тему, которая в литературе почти не присутствовала, — наука, научное творчество, романтика ученых. Мои друзья в основном — это физики, биологи. Люди, которые живут в будущем и знают то, чего пока не знает никто. Они — владельцы тайны. Я их, конечно, идеализировал, обожествлял. И чувствовал себя в этом первопроходцем.
У меня нет писательского образования. Я ведь окончил Политехнический институт. И от этого иногда ощущал себя белой вороной. Но чувствовал в себе призвание писать. Когда пришел с войны, то первое время скрывал от всех, что пишу по ночам романы. Да что там, я до сих пор сомневаюсь, есть ли у меня писательский талант.
Я по-прежнему боюсь белого листа. А как же! Твардовский как-то мне сказал, что тоже боится чистого листа и поэтому пишет на бумаге, обратная сторона которой исписана. Интересное предложение, да? Я к нему прислушался. С тех пор как стал членом президентского совета, мне стали присылать всевозможные бумаги — аннотации, информацию. После того как я все это просмотрю, раскрепляю скрепки, держащие бумаги. И можно писать.
Почерк у меня неважный, но жена разбирает. Она у меня вроде секретаря. Я пробовал работать на компьютере, но он мне немного мешал. Когда я пишу от руки, то чувствую слово. Я как-то был в доме Пушкина в Михайловском, и директор музея Гейченко дал мне пописать гусиным пером. О, это особое состояние! Когда ты страстен, получается жирный шрифт. Когда испытываешь другое настроение, он получается тонким. Поэтому, читая Пушкина, легко понять, в каком состоянии пребывал поэт. Если, например, написано жирным шрифтом, я сразу понимаю, что в тот момент в нем все клокотало.
Существует ли вдохновение или все решает трудолюбие? Бывает по-всякому. Но чаще всего приходится просто вкалывать. У Толстого, когда он писал «Воскресение», существовало 20 вариантов внешности Катюши Масловой. 40 страниц!
У Хемингуэя в «Прощай, оружие!» было больше 20 вариантов конца. А я убедился, что сам смогу переписать свои работы только 6 раз. Не потому, что у меня не хватит работоспособности. А потому, что я больше не вижу вариантов.
Вообще, история творится людьми. Звезды, конечно, могут оказывать какое-то влияние на психику людей, но конечный ход истории определяет человек. Его воля, его сознание, его понимание жизни.
Сегодня я понимаю, что то, как сложилась моя жизнь, во многом зависело именно от меня. Не все, конечно, но многое. То, что началась война — зависело не от меня. Но то, что я на нее пошел — от меня. И это определило ход войны.
Я вам сейчас скажу вещь, о которой у нас не говорят. Красная армия войну проиграла. Войну выиграл народ. Армия показала, что не готова к войне. После первых тяжелых боев она потерпела поражение и начала отступать. Армия ведь была без настоящих командиров, не была обеспечена с воздуха, связь была на уровне времен Первой мировой войны. Мы были не готовы к войне, несмотря на все наши пропагандистские песни, Ворошилова, Буденного и лозунги Сталина о том, что ни одной пяди земли не отдадим.
По всем военным показателям мы должны были проиграть. А немцы выиграть — у них были совершенно правильные расчеты. У них были такие танки! Я ведь сам танкист и видел, с какими машинами начинали войну мы и с какими — они.
Почему мы выиграли? Потому что с самого начала, с самого первого дня были в этом уверены. Чисто абсурдистское сознание — проигрывать сражение за сражением, отступать каждый день и все равно верить в свою победу.
Часть, в которой воевал я, отступала каждый день. Мы подошли вплотную к Ленинграду и были уверены, что город захватят. В середине сентября 41 — го он был совершенно беззащитен. И при этом подсознательно чувствовали, что этого не случится. Была какая-то психологическая заданность. При этом никакие политработники с нами не беседовали.