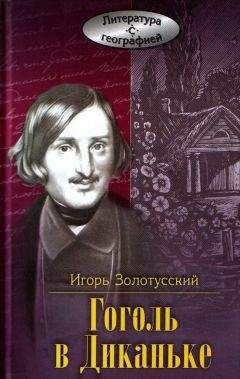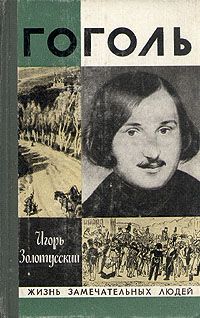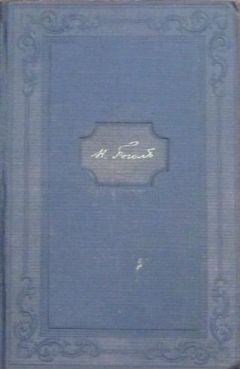Лора Томпсон - Агата Кристи. Английская тайна
Любил он и подурачиться, хотя, безусловно, отнюдь не был человеком недалеким. Он отлично знал цену окружавшим его людям, но не в его характере было демонстрировать им что-либо, кроме фасада «милейшего человека». Несомненно из самых добрых побуждений, он сочинил несколько легенд о своей семье, в частности — об интуитивном даре проникновения его дочери в суть человеческой натуры. Эти истории свидетельствуют, что писателем он был куда более даровитым, чем Клара. Сказки, которые рассказывала дочери перед сном Клара, искрились воображением, но Агату расстраивало и одновременно изумляло то, что Клара категорически не могла вспомнить на следующий день, о чем рассказывала накануне, и просто придумывала новую историю. А вот ее весьма натужные писания глубоко увязали в викторианских условностях («Итак, я была мертва! Значит, то был мой дух, обладавший сознанием…»[12]).
Рассказ Фредерика «Помолвка Генри» — это вариация на тему его собственных ухаживаний за Кларой. Генри — денди, дамского угодника — боготворит Мэриан, «девушка высоких принципов, глубоко верующая» и — так же как Клара — начисто лишенная чувства юмора. «Генри был страстно влюблен, но со свойственной ему беспечностью не спешил задавать сакраментальный вопрос. В конце концов и впрямь: куда было торопиться?»
Только в тридцать два года Фредерик отказался наконец от своей разгульной жизни и сделал предложение. Генри так и не женился на Мэриан, предпочтя сказать ей, что влюбился в другую девушку, «чьи изящные маленькие ручки волновали его и вызывали восхищение. У Мэриан руки были прекрасной формы, но… великоваты». Разумеется, после этого Мэриан благородно расторгла их помолвку. «Она держалась великолепно, и он всегда будет вспоминать о ней как об одной из самых прелестных женщин, каких ему довелось встретить в жизни. Собственная фраза ему понравилась…» Фредерик, в отличие от равнодушного Генри, был человеком добросердечным, но в рассказе различим намек на те же подтексты, какие пронизывают Кларины стихи.
Под внешней жизнерадостностью в Кларе постоянно жила тревога. Ее сжигал тот же огонь истового благочестия, что и монахиню на картине Холмена Ханта.[13] Фредерик шел по жизни легко, весело. Действие другого его рассказа, «Зачем Дженкинс давал обед», происходит в некоем нью-йоркском клубе, в привычном для Фредерика окружении. «Тост „За женщин, да благословит их Господь!“ провозглашался двадцать семь раз». Герой рассказа обладает обаянием самого Фредерика, что тоже подтверждает осознанность сходства автора с персонажем.
«Джимми до последней монеты тратил свой ежегодный доход и немного сверх того с полнейшим пренебрежением к будущему. Товарищи по клубу обожали его… Одна из его „возлюбленных“ сказала о нем: как жаль, что денег у него больше, чем мозгов. Когда кто-то из так называемых друзей, как это обычно бывает, довел ее высказывание до его сведения, молодой человек с завидным чувством юмора заметил, что дама абсолютно права, и тотчас отправил ей дорогущий букет роз… Хотя героическим персонажем его и не назовешь, Джимми, несомненно, был человеком доброжелательным и приятным».
Как и Джимми, Фредерик проматывал свое наследство. И делал это скорее из лени, нежели из сознательного расточительства. Быть может, вернись он в Америку с Кларой, как собирался сделать после женитьбы, было бы кому надзирать за управлением его инвестициями и имуществом. Но случилось по-другому. Вместо этого после долгого медового месяца, проведенного в Швейцарии, молодожены Миллеры поселились на модном курорте Торки, где в январе 1879 года родилась Мэдж. Следом — в июне 1880-го, во время их поездки в Нью-Йорк, — на свет появился Монти, после чего Клара вернулась в Англию, в то время как Фредерик остался «присматривать за делами». Приехав к ней в Торки на год или около того, как он предполагал, Фредерик обнаружил, что она купила Эшфилд за две тысячи фунтов стерлингов, оставленных ей дядюшкой Натаниэлем. Это было самым удачным вложением миллеровского наследства, гораздо более разумным, чем все, что когда-либо делал с ним Фредерик. Кроме того, со стороны Клары это было смелым и самостоятельным поступком, который сразу же превратил ее в равноправного партнера.
Фредерик послал ко всем чертям Нью-Йорк и, далеко не достигнув еще сорока, с удовольствием принял образ жизни человека средних лет. К этому его в значительной мере подвиг Торки. В викторианскую эпоху это было даже более рафинированное место, чем во времена Агатиной юности: тогда еще не существовало традиции совместных купаний, прогулок по Принсес-Гарденс, концертов, устраивавшихся позднее в Павильоне. Город был наводнен благовоспитанными богачами и просто состоятельными людьми, нуждавшимися в поправке здоровья (Наполеон III приезжал сюда лечиться и останавливался в отеле «Империал»; Элизабет Барретт-Браунинг[14] принимала ванны в «Бас-Хаусе» на Виктория-Пэрад). Некоторым он казался слишком претенциозным. «Торки — это место, через которое хочется протанцевать в одних очках, — писал Редьярд Киплинг, которого трудно заподозрить в богемности. — Виллы, аккуратно подстриженные кустарники, толстые старые дамы с респираторами на лицах, в огромных ландо…»
Но Фредерику все это подходило идеально. У него было родовое гнездо и дети, которых он обожал по-викториански безудержно: «Благослови тебя Господь, моя милая, — писал он Агате из Нью-Йорка в 1896 году. — Я знаю, что ты прекрасна, моя горячо любимая девочка…» В дополнение к этому его жизнь складывалась из обильных трапез, посещений Королевского яхт-клуба «Торби» и походов по магазинам: толстые пачки счетов свидетельствуют о легкости, с какой он тратил доходы, которые считал неиссякаемыми. Между тем, как понятно теперь, деньги утекали; выписанные изысканным почерком чеки рисуют весьма прихотливый портрет Фредерика. Одетый с иголочки, чисто выбритый джентльмен, каждый день с обаятельной улыбкой следующий по улицам в клуб, не способный противостоять искушению заглянуть в «Донохью» или в Музей изящных искусств на Виктория-Пэрад. Бывая в Лондоне, он сорил деньгами с такой же широтой. Сохранилось много счетов из ювелирных магазинов, в том числе один на 810 фунтов стерлингов. Он покупал также хорошую мебель (пять чиппендейловских стульев красного дерева, приобретенных на Юнион-стрит) и гораздо менее хорошую живопись: множество картин маслом загромождали стены Эшфилда, хотя сами комнаты были просторными и элегантными. Местному художнику Н. Дж. Х. Бэрду заказали портреты Фредерика, троих его детей, собаки Монти и няни Агаты; эти портреты до сих пор висят в Гринвее. Особой художественной ценности они не имеют; «Все вы выглядите так, словно не мылись несколько недель!» — таков был вердикт Клары, и сама она позировать, разумеется, отказалась, хотя портрет Нянюшки, как называли в семье Агатину няню, не лишен некоторого мягкого фламандского колорита. «Думаю, что это очень милая живопись, — писала Агата в 1967 году в ответ на письмо дамы, составлявшей каталог работ Бэрда. — Мой отец всегда очень высоко ценил его картины».[15]