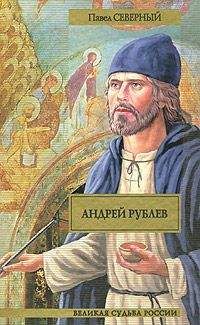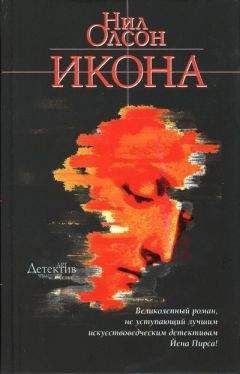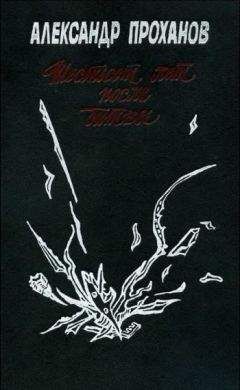Пол Стретерн - Гегель
Тем временем Гегель продолжал заниматься своим обычным делом – читал лекции десяткам жадных до знаний студентов, заполнявших аудиторию. Положив на кафедру перед собой табакерку, опустив лысеющую голову, он неуклюже возился в своих бумагах, листая страницы, медленно что-то бубня, неуклюже продираясь сквозь бесконечные нагромождения придаточных предложений, выдавливая из себя каждую фразу. Но поднявшись наконец на плато чистой абстракции, Гегель достигал, случалось, апофеоза внезапного красноречия, речь его возвышалась над постоянно конфликтующими тезисами и антитезисами профессионального языка и взмывала на недосягаемую высоту, где и росла, словно по собственной воле, пока у лектора не случался очередной приступ кашля.
Порой после лекции какой-нибудь окончательно запутавшийся студент отправлялся вслед за Гегелем к нему на квартиру. Здесь он видел странного человека с болезненно-бледным лицом, сидевшего за огромным, заваленным книгами и бумагами столом, закутанного в серо-желтый, до пола, халат. В ходе нескладного разговора Гегель вдруг задумывался о чем-то своем, ворошил разбросанные бумаги, что-то бормотал себе под нос и лишь по прошествии немалого времени вспоминал о своем госте.
В это время Гегель почти ничего не печатал, но благодаря нескольким верным криптографам записи его лекций публиковались в различных сборниках. Эти заметки представляют собой наиболее полное изложение его взглядов на эстетику и философию религии, а также печально знаменитую концепцию философии истории. Историю Гегель пытается свести к диалектическому процессу – впоследствии эта псевдоидея вернулась в трудах его последователя Маркса. Согласно такому подходу, история имеет цель (для Гегеля это божественная воля, для Маркса – коммунистическая утопия). Гегель прослеживает ползучее продвижение диалектики через песочные крепости времени. Империи прошлого – Китай, Древняя Греция, Рим – проложили путь Прусскому государству, высшей форме общественного устройства из всех существовавших на Земле (права которого неизмеримо превосходят права любого индивидуума).
«Мы увидим при рассмотрении истории философии, что в других европейских странах, в которых ревностно занимаются науками и совершенствованием ума и где эти занятия пользуются уважением, философия, за исключением названия, исчезла до такой степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже смутного представления о ее сущности; мы увидим, что она сохранилась лишь у немецкого народа в качестве его своеобразной черты. Мы получили от природы высокое призвание быть хранителями этого священного огня, подобно тому, как некогда роду Евмолпидов в Афинах выпало на долю сохранение элевзинских мистерий или жителям острова Самофракии – сохранение и поддержание возвышенного религиозного культа; подобно тому, как еще раньше мировой дух сохранил для еврейского народа высшее сознание, что он, этот дух, произойдет из этого народа как новый дух»[7].
Идея поступать с предыдущими хранителями «священного огня» высшего разума так, как поступали с ними нацисты в XX в., принадлежала, конечно, не Гегелю. Он пришел бы в ужас от тех мерзостей, что творили в Третьем рейхе во времена Гитлера. Но и та ерунда, которую он писал, на пользу делу, мягко говоря, не шла.
Гегель старался смотреть на историю с возможно более широкой перспективы и называл свой подход «всемирно-историческим». История виделась ему как процесс самореализации. Человечество вступило на путь интеллектуальной рефлексии и самопознания, постепенного понимания своего единства и цели. Осмысливая историю нашей самореализации как значимое целое, заявлял Гегель, мы вбираем все наше прошлое. Поэтому цель истории состоит в постижении смысла жизни и никак не меньше.
Прогресс, «понимание прошлого» (как будто его можно интерпретировать однозначно), смысл жизни – далекие от «всемирно-исторического взгляда», эти идеи нашли благодатную почву в Германии начала XIX в. Германские земли объединялись в единое государство, которому было суждено впоследствии стать сильнейшим в Европе; по континенту победоносно шагала промышленная революция; мир входил в золотой век научных открытий; а европейские империи распространяли свое влияние на самые отдаленные уголки планеты.
С точки зрения человека, живущего в конце XX столетия, все выглядит далеко не так. Прогресс уже не рассматривается как нечто неизбежное, и человечество даже примирилось с возможностью собственного исчезновения. Равным образом наука приобрела черты скорее Абсолюта, чем Духа. Объяснить такое развитие гегелевская теория истории не в состоянии (как и порожденная ею марксистская теория истории бессильна объяснить, почему никак не наступает «неизбежный крах капиталистической системы»). Мы больше не рассматриваем историю человечества как следование к некой цели по некоему предначертанному плану; для нас она скорее научный эксперимент, результат которого зависит по большей части от нас самих.
Особое видение истории, при всех его недостатках, не помешало Гегелю вынести и верные суждения. Едва ли не единственный среди мыслителей XIX в., он предсказал грядущий рост влияния Америки: «Америка есть страна будущего, в которой впоследствии… обнаружится всемирно-историческое значение»[8]. Маркс, Ницше, Жюль Верн – ни один великий пророк XIX в. ни словом не обмолвился о самом значительном изменении влияния на международной арене в ХХ столетии.
В 1830 г. Гегеля назначили ректором Берлинского университета, а годом позже король Фридрих-Вильгельм III наградил его орденом. Но ужимки мирового духа не давали философу покоя. В 1830 г. в Париже произошла очередная революция, и теперь Гегель уже не поспешил сажать «дерево свободы». Когда отзвуки событий во Франции докатились до Берлина и в городе началось народное восстание, Гегель слег в постель от одной лишь мысли о власти толпы. Через год Allgemeine Preußische Staatszeitung опубликовала статью, в которой философ подверг критике обсуждавшийся в английском парламенте «Билль о реформе» и выразил свое отношение к британской демократии.
По мнению Гегеля, британская конституция не шла ни в какое сравнение с «рациональными институтами» Прусского государства. А народное правление, даже в той жестко ограниченной форме, в которой оно существовало тогда в Великобритании, явно служило помехой на пути вальсирующего мирового духа («диалектический бостон»). Правительству нечего даже пытаться выразить волю народа. «Народ никогда не знает, чего хочет». Но даже эти высказывания показались прусским властям слишком революционными, и при повторной публикации статья вышла с сокращениями.
В 1831 г. Берлин пострадал от прокатившейся по Германии эпидемии холеры. Гегель переехал на лето в загородный домик. Но ничто, даже холера, не могло удержать его вдалеке от любимого лекционного зала. В ноябре он вернулся в Берлин и два дня подряд читал лекции, причем «с поразившими слушателей огнем и энергией выражения». (Биограф Гегеля Розенкранц приписал это не свойственное философу красноречие начинавшейся у него холере.) На третий день Гегель заболел, а днем позже – 14 ноября 1831 г. – мирно умер во сне, даже не подозревая, что его жизнь в опасности. Похоронили Гегеля, как он и завещал, рядом с Фихте. Теперь его могила на Доротеенштадтском кладбище, что к северу от центра города, считается национальной святыней.
Получив известие о смерти брата, Кристиана начала писать воспоминания, где рассказывала об их с Гегелем детстве в отчем доме. Рукопись она послала вдове Гегеля, а сама некоторое время спустя утопилась, войдя в реку.
Через пять лет на учебу в Берлин приехал Карл Маркс. В университете он познакомился с работами Гегеля. Восприняв главный тезис его идей, а затем и отреагировав на них соответственно, он синтезировал собственную философию – диалектический материализм. Такого будущего для мирового духа Гегель наверняка не предвидел.
Послесловие
Гегель хотел, чтобы его воспринимали всерьез, и это его желание исполнилось. Антидот гегельянства распространился по всей Европе, прививая философским отделениям университетов стойкое неприятие философского мышления. Гегельянство, с его трепетным отношением к существующему общественному порядку, было именно тем, что и требовалось вильгельмовской Германии и викторианской Британии. Гегель взял на себя огромный труд, сложив блистательно туманный гимн во славу буржуазного государства, сочинять который в противном случае пришлось бы кому-то другому. Гегелевская философия отвечала всем требованиям своего времени. Дисциплина и порядок, убежденность в необходимости упорного труда как такового, вера в благотворную природу страдания, защита жесткой, неколебимой системы, метафизические основы которой остаются за пределами понимания – все эти требования предъявлялись читателям Гегеля (не говоря уже о средних классах общества конца XIX в.). Глубоко продуманная, всеобъемлющая система напоминала масштабную, планетарных размеров игру в бисер, своего рода интеллектуальный вызов, привлекший внимание многих величайших умов того времени. Таковым гегельянство, вероятно, и осталось бы, но Европе не суждено было вступить в затяжной период стабильности еще одного средневековья, в котором диалектика играла бы роль интеллектуальной забавы, более важной даже, чем силлогизм.