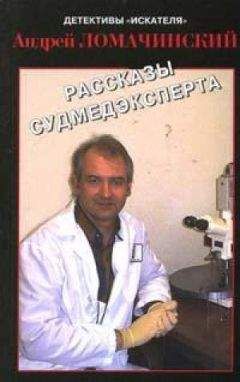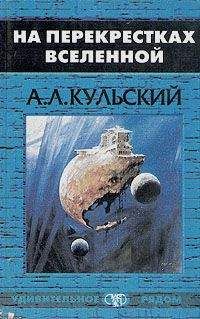Кира Викторова - Пушкин и императрица. Тайная любовь
Это сближение трагических судеб «революционных голов» России: И. Пущина, В. Кюхельбекера, К. Рылеева и других декабристов, так или иначе связанных с Лицеем, Елизаветой Алексеевной и Пушкиным, продолжено в стихотворении 1829 г. «На холмах Грузии», где воспоминания о тех, которые далеко, «иных уж в мире нет» – соединено с утверждением первого, девственного чувства к «Деве» Царского Села: «Я твой по-прежнему… Тебя люблю я вновь. Как жертвенный огонь чиста моя любовь И нежность девственных мечтаний…» (то есть той элегии скорби, которую М. Волконская в письме к В. Вяземской нашла «французским мадригалом», «любовной болтовней»).
Как известно, М. Волконская в своих воспоминаниях о совместном путешествии с Пушкиным по Кавказу отнесла строки «Тавриды» и финала I главы. «Онегина»: «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам. Бегущим бурною чредою С любовью лечь к ее ногам», – к своей шалости 15-летней девочки, бегающей за волной по песку безоблачного Азовского побережья у Таганрога». Мемуаристку, не видевшую рукописей поэта, можно извинить. Но исследователей «Тавриды» не заинтересовал тот факт, что под стихами воспоминаний о «милом следе» Пушкин оставляет следующие даты: 1811 г. (то есть год открытия Лицея), 1812,1813,1815,1816 и т. д. до 1831 года, – года окончания «Онегина». Число «14 апреля» также не совпадает со временем совместного путешествия с семьей Раевских, так как Пушкин выехал в ссылку 9 мая 1820 г.
В связи с датами «Тавриды» уместно будет вспомнить элегические следы «Милой» 1816 г. в Царском Селе:
…к ручью пришел, мечтами привлеченный.
Не трепетал в нем образ незабвенный
Я не нашел оставленных следов…
(«Осеннее утро»)
Эти же следы «милых ног» будут впоследствии перенесены Пушкиным в биографию Ленского:
Он рано без нее скучал
Бродя без Ольги, меж цветов
Любил искать ее следов…
И в биографические строки VIII гл. «Онегина»:
В те дни… в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной Девы и любовь
Младую взволновала кровь,
И я тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
О ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал.
Кстати, и в I главе. «Онегина» Пушкин явно вспоминает те же следы, оставленные и на «граните скал» (то есть не на песке нагой степи Азовского побережья), и на весенних лугах:
Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?…
Обращает на себя внимание и явное предпочтение, которое поэт отдает «милым следам», очевидно, немолодой женщины – устам «младых Цирцей»:
Нет, никогда средь бурных дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей
И перси, полные томленьем,
Как я желал сей милый след
Коснуться жаркими устами…
Перед нами то же отрицание «младых Цирцей», что и во II главе. «Евгения Онегина», где расположены профили сестер Раевских.
В элегии 1820 г. «Погасло дневное светило», вспоминая «юных лет безумную любовь», Пушкин открыто признается: «Но прежних сердца ран (другой вариант «но тайных сердца ран»), глубоких ран любви, ничто, ничто не излечило». То есть в этом стихотворении, написанном после путешествия с Раевскими, ни о каком новом чувстве речи нет. В элегии 1824 г. «К морю» («Прощай, свободная стихия!») Пушкин, обращаясь к «угрюмому океану» 1820 г., подтверждает ту же юную утаенную любовь: «Ты ждал, ты звал… я был окован… могучей страстью очарован У берегов остался я». Комментируя стихотворение 1824 г., Цявловская отнесла его к Воронцовой. Разделяя единство поэтики двух стихотворений, исследователи разделяют и «юную любовь» поэта, «открывая» следующую закономерность стихосложения Пушкина (!): «…отрывками из недописанных стихотворений Пушкин постоянно пользовался впоследствии для других произведений, не связанных с первым замыслом и их вдохновительницей». И потому – разделяй и властвуй (читай «Разговор с книгопродавцом», «Таврида» и «Кавказ»). Известную элегию 1824 г. «Пускай увенчанный любовью красоты» (отнесенную Цявловской также к Воронцовой) Пушкин завершает поэтической формулой, знакомой нам по элегии «Погасло дневное светило» 1820 г.
…Но ни единый дар возлюбленной моей
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.
(2, 2, 911)
Ср.:
…Но прежних сердца ран, глубоких ран любви
Ничто, ничто не излечило.
(«Погасло дневное светило»)
То есть ни совместное путешествие с Марией Раевской, ни знакомство с Воронцовой «не излечили ран любви» поэта к «Деве» Царского Села.
Как видим, Пушкин весьма продуманно выстраивает способ исповеданности своих лирических отступлений, «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Он исповедовался в своих стихах… Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением», – пишет «Байрон Сергеевич» Вяземскому из Михайловского в конце ноября 1825 г. (13, 243–244). «[…] Мысль, что Пушкин приступал ко всем явлениям физического и нравственного мира как к предметам искусства, – пишет П. В. Анненков, – сделалась у нас общим местом. Будущим критикам предстоит однако же труд вполне определить способ, каким выражалось это направление, потому что способ выражения в художнике и есть мерило настоящего его достоинства». Формулировка Киреевского – «Пушкина – поэта действительности» – заключает в себе цельность, единство образной системы, без разделения творческого наследия на «периоды» по сюжетам и жанрам. Подобно Ленскому, Пушкин поэтизировал действительность: «что не заметит, не услышит… о том и пишет. И полны истины живой, текут элегии рекой».. «Способ» же, каким выражались эти предметы, напоминает принцип диорамы: «Откроешь диараму…» – читаем мы в «Возвращениях к Онегину». Волшебство диорамы, например, «Тильзитского мира» 1807 г. представляло собой нарисованные на стекле с двух сторон картины. Когда свет падал спереди – публика видела только изображение плота на Немане. При освещении сзади на плоту появлялись фигуры Наполеона и Александра I. «Магический кристалл» поэтики Пушкина и заключал в себе героев действительности, которые с одной стороны являлись «Евгением Езерским», с другой – поэтом Пушкиным. Что же касается «эволюции», то вначале были «рифмы», потом, в зрелые годы – проза: «Лета шалунью рифму гонят. Лета к суровой прозе клонят».
Прежде чем приступить к непосредственному чтению рукописей «Полтавы», уточним структуру поэтики некоторых вариантов «Посвящения».
В стихах: «Но если ты узнаешь звуки Цевницы, преданной тебе…» – слышится отзвук утаенной любви в элегии 1818 г. «Дубравы, где в тиши свободы»:
И мысль о ней одушевила
Моей цевницы первый звон,
И тайне сердце научила.
Поэтическая формула другого варианта:
Узнай, но крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе… —
вызывают в памяти строки поэмы, начатой еще в Лицее:
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы грешные мои…
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младова…
(«Руслан и Людмила»)
Обратим внимание и на еще одну существенную деталь, метафора стиха: «Твоя печальная пустыня», – тождественна одиночеству Татьяны в деревне:
Тогда, не правда ли, в пустыне,
Вдали от суетной молвы…
Отметим и то важное для нашей темы обстоятельство, что в завершающих стихах «Посвящения» Пушкин не только помнит «святыню» образа женщины, но и звук ее речей, что означает личную особенность голоса Той, кому посвящена поэма.
А речь ее. Какие звуки могут
Сравниться с ней – младенца первый лепет… —
вспоминает Пушкин младенческую нежность голоса «Русалки» – «ЕА», кончина которой отмечена в записи автобиографического значения 1826 г. под той же монограммой.
Но речь и взоры дивной той Жены
Навечно в сердце запечатлены,
Приятным, сладким голосом бывало
Читает иль беседует она…[17] —
возвращается поэт к началу своей жизни – Лицею и образу «Жены», смотревшей за «Школой» в терцинах Болдинской осени. (1830 г.)
Как уже отмечалось в первой главе «Хранитель тайных чувств», обожествление возлюбленной – прием, неразрывно связанный с символизацией: Беатриче и Лаура – реальные женщины и одновременно символы возвышенных понятий, духовного совершенства. В «Марии» видел «мира совершенство» и юный «Козак», отвергнутый героиней «Полтавы».
В 1836 г. в «Примечаниях» к Записке Карамзина «О древней и новой[18] России» (1811 г.) поэтическая фразировка «Посвящения»: «узнай по крайней мере звуки» – вошла в прозу памяти Карамзина – почитателя и друга Елизаветы Алексеевны: «Они услышат если не полную речь великого нашего современника, – пишет Пушкин, – то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса».