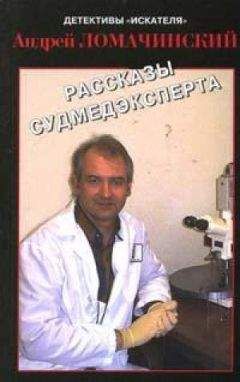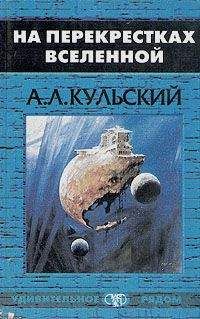Кира Викторова - Пушкин и императрица. Тайная любовь
То есть на «Онегина», который —
Из уборной выходил,
Подобно ветреной Венере,
Когда надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад,
Не чалмоносный кровопийца, —
то есть на «Хана Гирея», опустошающего «набегами» своих соседей, героя «Бахчисарайского фонтана», «На ренегата-усача» – то есть на «Мазепу», который, по словам Пушкина, «за дерганье усов мстить не станет».
«Ничто так не враждебно истине, как недостаточное ее различение», – напоминает Пушкин, цитируя «Размышления о французской революции» Э. Берка.
Комментируя «Цыган», исследователи уверяют читателей, что в «Алеко» – убийце свободолюбивой Земфиры (?) – Пушкин имел в виду себя: «[…]в образе Алеко выражены чувства и мысли автора. Недаром Пушкин дал ему свое собственное имя (Александр)». И далее так определяют поэтику «Цыган»: «посторонние образы – стихи о беззаботной птичке, рассказ об Овидии…».
Но «посторонние» стихи о птичке и являются как раз развернутой метафорой образа «перелетного» «Цыгана» – Алеко:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда…
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал,
Ему везде была дорога.
Ср.: «… враг труда Над нами властвовал тогда» X глава «Евгения Онегина».
«Пушкин, как и его герой, жил в таборе», ~ приводит другой довод С. М. Бонди.
Но и Александр I, как известно, также «кочевал» – путешествовал по Бессарабии в 1818 г. (см. Шильдер, Ш том, с. 46).
Что же касается «постороннего рассказа об Овидии» – то исследователь поэмы упускает тексты послания Пушкина «К Овидию» и послания «К Гнедичу», – где ясно проводятся параллели судеб изгнанного Августом (то есть Александром I) Овидия – и поэта Пушкина:
Не славой – участью я равен был тебе…
(«К Овидию»)
«В стране, где Юлией венчанный / И хитрым Августом изгнанный // Овидий дни свои влачил» – так же, как и Пушкин в Молдавии.
«Цыганы», – комментирует далее С. Бонди, – является поэтическим выражением мировоззренческого кризиса Пушкина. Заменить эти отвлеченные, туманные идеалы какими-либо реальными, связанными с общественной жизнью, Пушкин еще не умеет.
Думается, что С. М. Бонди и его последователи так же не поняли образного строя «Цыган», как ошибочно прочли образ Алеко друзья Пушкина – Рылеев и Вяземский: «Оставь нас страшный человек – Ты для себя лишь, хочешь воли», – таков приговор Алеко, вложенный поэтом в уста старого Цыгана:
Мы не неволим, не казним,
Но жить с убийцей не хотим… —
о чем и говорит Пушкин, комментируя образ Алеко и других героев поэмы в «Езерском».
[…] Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты уныл и нем.
Глупец кричит: «Сюда, сюда!
Дорога здесь…»
Трагическая горечь этих строк «Езерского» о непонимании образной системы поэта перекликается с мыслями «Опровержений на критики»: «[…] Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя. Вяземский повторил то же замечание (Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было б не в пример благороднее…) Правда, тогда не было бы и всей поэмы».
Действительно, почему «благородный» Алеко водит именно «медведя» (что удостоверяют и рисунки медведя в ошейнике на полях «Цыган»), да еще «собирает дань с глазеющей публики»?
Ответ на этот вопрос дает опять «отечество карикатуры и пародии». В английской карикатуре на Павла I, изданной в Лондоне в 1799 г. – то есть в заговоре против Павла и плане Палена объявить Павла I сумасшедшим, а Александра – регентом – Александр водит на цепи «медведя» в ошейнике – Павла I. Стихи под карикатурой в переводе гласят: «Галльская чума (то есть французская революция), которая похитила рассудок бедного Павла…» Вернемся к портрету «свободолюбивого» Мазепы.
С какой доверчивостью мнимой
Сам добродушно на пирах
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным
Поносит власти с недовольным…
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать.
Немногим между тем известно,
Что гнев его неукротим,
Что мстить и честно и бесчестно
Готов он недругам своим.
Что он не знает благостыни,
Что он не ведает святыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
Думается, что вряд ли найдутся читатели, которые не узнают в этих вдохновенных мазках портрета «Мазепы» известных черт Александра I: «В духовном отношении, на первый взгляд, это образ ангела, сотканный из доброты, кротости и чистоты, полный благородных стремлений и великодушных порывов. И потому самые горячие надежды связаны со вступлением на престол этого избранника… А когда его царствование кончится, вдова государя все еще будет полна прежних иллюзий: «Наш ангел на небесах», – напишет она. Но все это одна иллюзия, и при ближайшем рассмотрении картина меняется: та же самая душа представляется извилистыми изгибами и темными тайниками[20]».
Как мы теперь можем убедиться, рисунок души Мазепы – извилистого червя-«искусителя» – полностью совпадает с историческими портретами Александра I. Сравни характеристику Онегина: «Созданье ада иль небес Сей ангел, сей надменный бес».
Таков он был, жестокий, властный, Коварный, дерзостный старик…
…Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.
На полях возле этих стихов Пушкин рисует вновь «змия», но уже реалистическую змею Фальконе, стремящуюся ужалить стихотворный, поэтический портрет Мазепы.
Как известно, змея на памятнике Петру олицетворяла заговор старинной боярской аристократии против петровских реформ.
В данном контексте стихов и рисунков – змея Пушкина означает заговор декабристов – потомков «Рюриковичей» против Александра I.
Рассмотрим другой, не менее интересный лист «Полтавы». (17 об.)
Среди стихов:
Давно Украйна волновалась,
Друзья мятежной старины
Алкали бунта и войны.
Напрасно ропот раздавался,
И слово грозное «пора»!
Народ напрасно колебался,
Надеждой бурною горя,
Но старый гетман оставался
Усердным подданным царя, —
Пушкин рисует два профиля, слитые воедино, но отвернувшиеся друг от друга: вдовы Павла I, Марии Федоровны, и Александра I, в последний год жизни. (Портреты М. Ф. 1796 г. и А.I силуэт 1814 г.) Ниже – резвые женские ножки, торсы и крупно: «UPOS – АНЧАРЪ». Перед нами одна из загадок рукописей поэта.
Начнем с грозного «пора».
«Пора! пора! Рога трубят», – так начинался «Граф Нулин» – «пародия» на «историю и Шекспира». Но Пушкин заканчивает заметку о поэме 1825 г. совсем не пародийно: «Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения».
Смысловое равнозвучие – семантический ассонанс, выраженный метафорически, основан на отдаленных ассоциациях. Сигнал охотничьего рога: русское «пора» (французское «mort») – означает «смерть затравленной добычи».
Так как рисунки занимают большую половину листа – приведенные стихи и рисунки являлись плодом глубоких размышлений Пушкина. Какое смысловое «равнозвучие» слышал Пушкин? Какие отдаленные ассоциации возникали у него, когда он «видел» вдову Павла I, Александра I, «друзей мятежной старины», «слышал» «грозное «пора»», рифмуя для «слуха и для глаза» – стихи и рисунки?
«[…] Смысл исследования образного строя, – утверждают современные теоретики литературы, – заключается в стремлении вычитать нечто глубоко личное, пролить свет на тайну творца.» Учитывая, что профиль Марии, «обольщенной дочери», «списан с живой картины» – портрета Елизаветы Алексеевны Виже Лебрен 1801 г. – попробуем сделать такие «странные сближения».
1801 год – это год «цареубийства 11 марта», и Александр, как известно, был участником заговора. (По историческому совпадению 1801 год является и годом смерти отца Елизаветы Алексеевны – Людвига-Карла Баденского)[21].
В письмах к Марии Федоровне («наш ангел на небесах») и при жизни Александра I – Елизавета Алексеевна называла вдову Павла I «матушка».
Прочитаем вновь ночную сцену матери и Марии во второй песне «Полтавы», как она слагалась в рукописи (V, 250–252):
Мать
…Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.
Дочь
(в ужасе)
Какой отец?
Какая казнь?
Мать
Иль ты доныне
Не знаешь?… нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце…
Ты сладко спишь и ждешь Мазепы,
Когда читают приговор,
Когда безумный и свирепый
Сейчас свершиться должен суд…
Но я тебя не упрекаю
Он твой супруг, я понимаю,
Но мой старик мне дорог боле
Он мой супруг – он ваш отец.
(V, 319)
Приведенные стихи и обращение матери к дочери на «вы»: «Он мой супруг – Он ваш отец», – дают смелость предположить, что в этой ночной сцене Пушкин, сквозь «вымыслы романтические», проводил нить истинного происшествия – поэтический допуск ночного визита Марии Федоровны к невестке в ночь на 12 марта, в Михайловском замке, когда над Павлом уже «стучал топор».