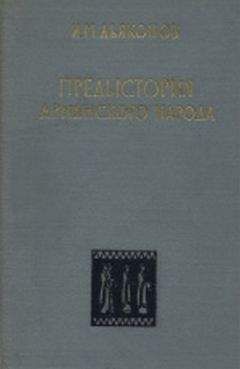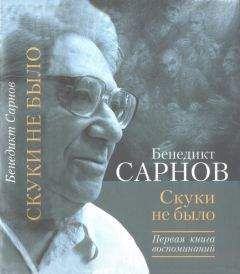Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний
Потом появились дедушка — папин папа Алексей Николаевич (Алик был назван в его честь — именно потому, что папа был уверен, что его не может быть в живых), бабушка — Ольга Пантелеймоновна и тетя Вера. Помню только дедушку в блестящих золотых очках, со вставшими дыбом волосиками на большой круглой голове. Они вежливо разговаривали со мной, но разговаривали так, как я не привык: как с маленьким — и сказать им мне было нечего, потому что я чувствовал: что бы им ни рассказал, им будет неинтересно, в лучшем случае забавно (а это уже обида) — как и мне неинтересно (хотя нисколько не забавно) то, о чем они говорят. Они остались недовольны, говорили, что я смотрю букой. И я видел, что мама неприятно взволнована разговором с ними.
Если перейти площадку черной лестницы — там была дедушкина квартира, выходившая окнами и тяжелым каменным балконом на наш красивый проспект. Мы изредка бывали там в эти годы — в этой огромной, холодной, двенадцатикомнатной пустыне, где вся мебель была покрыта чехлами. Только черная лестница была у нас общая — наша квартира смотрела окнами на пустыри и радиомачты, а дедушкина была обращена лицом к Каменностров-скому.
Помню, в самом начале там обитали две горничные в темных платьях и белых передниках и наколках. Помню потому, что они приходили к папе и чего-то взволнованно от него добивались. Потом они исчезли, и пустые двенадцать комнат сияли теперь паркетом только в специальном альбоме видов квартиры, а на самом деле они где-то рядом с моей жизнью, но совсем за ее пределами, тускнели под пылью. Мы редко заходили в эти комнаты; как-то раз пришли в дедушкин огромнейший зал сниматься. Видимо, туда изредка наведывалась молочница, и это было причиной неприятного разговора бабушки Ольги Пантелеймоновны с мамой. Вернувшись, эту квартиру дедушка не получил, но получил другую, поменьше.
Мир, окружавший меня до сих пор — Каменностровский от дома эмира Бухарского и страшного пустыря дома Гробова, где ютился «Столбняк», от Силина моста через пузырящуюся, мутную Карповку до Каменного и Крестовского островов, с очередями у ПЕПО, наша квартирка с ее раз и навсегда расположенными холодными комнатами, мама, папа, Миша, Алик, Нюша, бабушка, тетя Женя, Сережа Донов, матросы у подъезда дома 67 — все это было частью моей жизни, и чем-то, что существовало всегда, как смена дня и ночи, лета и зимы. Но этот привычный мир разрушался. Из него выбыли папа и Миша — хотя Миша не выбыл вовсе из жизни: я постоянно сообщал ему новости из Ахагии, он существовал в своих письмах, в его друге Юре Долголенко, который не забывал меня. Вес же чего-то в жизни недоставало; за обедом стол был полупустой и непривычно неразговорчивый. Нюша где-то служила, и я видел ее редко.
Лежа больной, я диктовал маме драму «плаща и шпаги» — «Пидог и Эгесмей» из истории Миндосии (это такая страна рядом с Ахагией, на том же острове Гунт). Это была лучшая из шести драм, которые я успел написать, но не было Миши, чтобы прочитать ему. Начал роман, но не писалось. Написал лирическую поэму: «Жена, которая»:
I
Уже тогда желтела роща,
Валились листья с всех дерев,
Жила на свете сила-моща —
Два льва и лев.
Он был не лев, но был силен,
Всегда он осень уважал
И также был умен.
Он раз однажды полежал,
С тех пор он стал лежать.
Но он не стал нюнить:
Жену он выбирал.
II
Она звалась Минервой,
Была она умна.
Была же она первой
Лишь потому: сильна,
и так далее строк сто. Но не с кем было обсудить, хорошо это или плохо.
И вот пришло известие, что папа останется в Норвегии дольше, чем он думал: во всяком случае, еще на год, — и мы должны к нему приехать. Новая, неизвестная жизнь должна была начаться — и я еще не знал, что с ней изменюсь и я; что Гарик из Норвегии будет вспоминать Гарика с Каменноостровского, как вспоминают старого знакомого, которого уже никогда больше не встретишь.
Прощай, страна дорогая,
Ты мне была мать, но злая
Судьба разделила
Тебя и меня.
Наша семья тебя любила
И уезжает, любя…
Я пишу своими скоропечатными буквами это, последнее, стихотворение и отдаю его Тане, которая, все-таки, больше других входит в интересы моей жизни.
Перед отъездом произошло событие, омрачившее радостное волнение этих дней.
В последней папиной посылке были подарки ко дню рождения для Алика и для меня (в январе мне исполнилось семь лет, а ему — три), — первые игрушки за эти годы: Алик получил желтого мишку, я — долговязую серую обезьяну. Мишке было дано имя — Михаил Иванович Самсоненко, а обезьянке — имя Маргарет Смит, вычитанное мной незадолго перед тем из какого-то американского мещанского романа. Было решено, что они поженятся, как только приедут в Норвегию.
Но дня за два перед отъездом мы сидели с Аликом перед открытой печкой; я перечитывал роман про Маргарет Смит — мастерицу из шляпного магазина, встретившую своего героя — голубоглазого джентльмена со стальными мускулами и кучей денег, — и изредка смотрел в волшебный мир огня, где громоздились светящиеся замки, и огоньки сражались с великанами-головнями. Алик возился с Самсоненко. И вдруг по непонятному движению души он быстро швырнул его в печку.
Я закричал ужасным голосом; кто-то прибежал и вытащил пылающего мишку из огня, но лицо его было сожжено и обуглено. В детстве еще можно чувствовать чужое горе, как свое собственное — сердце разрывалось от горя за безутешную обезьяну. Напрасно мне говорили, что Самсоненко положат в больницу, что свадьба состоится — Маргарет Смит пришлось ехать на чужбину ни вдовой, ни женой, ни невестой, и она навсегда осталась печальной и никогда уже не могла по-настоящему радоваться, даже когда через год кое-как починенный мишка со стеклянными бусинками на шерстинках вместо черных пуговичных глаз и с лицом темно-бежевого плюша был доставлен в Норвегию, и верная Маргарет Смит, уже постаревшая и облезшая, с вылезавшей из рук и ног проволокой, но которой ее Самсоненко был мил и инвалидом, — вышла, наконец, за него замуж.
Но вот одним прекрасным днем за нами приходит скрипучий черный автомобильчик, входит незнакомый бородатый человек — он служит с папой — мы прощаемся — помню залитое слезами лицо Нюши, — присели перед тем, как выйти из комнаты, потом сбежали по знакомой лестнице с чистыми желтыми и красными квадратиками пола и светло-серыми ступенями — сели в автомобиль — и вот уже поезд — непонятный сон — утро, снег, заснеженные сосны за окном — дым.
Уезжаю в дальние страны.
Свои мысли собрать не могу.
Воздух чист, но дали туманны –
Искры гаснут на белом снегу…
Твержу эти Мишины стихи, хотя искр и не видно.
Как во сне промелькнул Гельсингфорс — помню только, что маме нужно было спросить нескольких человек, пока ей ответят по-русски, как найти магазин, где она на скорую руку покупала нам с Аликом одежду, помню неприятно вежливого продавца, по-русски всучавшего растерянной и не знающей цен маме совершенно ненужные вещи. Потом Або (русское название финского города Турку — по-шведски Обу), черный пароход с сеточными перилами и полосатой трубой.
Пароход долго идет по узкому каналу, прорубленному ледоколом в сплошном льду. Из белого пространства моря выступают мелкие каменные островки, и на них торчит где одна, где десять сосен. По льду, рядом с пароходом, бредут коровы, люди. Подождав, пока пройдет пароход, надвигают на прорубленный канал мостки и идут себе с острова на остров. Но дальше лед ломается, плавают уже только отдельные льдинки, и на сером море начинаются волны; пароход качает. Нам с Аликом становится сонно, мама отводит нас в каюту и укладывает на койку с брезентовым бортиком. И мы спим, а когда просыпаемся — смотрю в круглое окно-иллюминатор с бронзовыми болтами: пароход идет между близких берегов, по которым тянутся красивые разноцветные деревянные домики, сосновые рощи, — и вот уже большой, сияющий огнями Стокгольм. Снова поезд, и опять за окном — скалы, домики и сосны. Последняя таможенная проверка — вдруг в вагон на станции Конгсвингер входит папа в мохнатом серо-зеленом пальто. Они садятся с мамой на диванчик в купе, и мама не отводит от него радостных глаз, и они говорят, говорят.
Как мы добрались до Кристиании, а затем до гостиницы — не помню; но помню номер в мансарде гостиницы «Отель Бульвар», выросшего Мишу с длинными ногами в коротких штанишках, окна на слякотную улицу и серые безлистные деревья в черном сквере, за которым видна еще одна улица, голубые трамвайчики вместо наших красных, на кровати — новые звери: на этот раз мне — медведь, пленивший меня веселой задорностью мордочки и шапочкой на одном ухе, — это Михаил Михайлович Самсоненко — двоюродный брат пострадавшего, хитрец, но верный защитник и покровитель Маргарет Смит, — а Алику — шимпанзе, которую он потом взял за себя замуж, и она стала носить громкое имя Милы Дьяконовой-Алик. Помню ночь в огромной кровати, и Миша, стоя около на коленях, учит меня считать до двадцати по-норвежски.