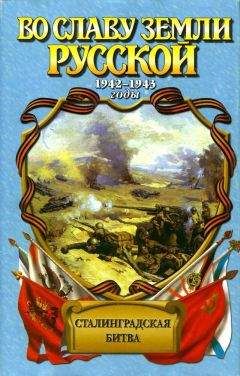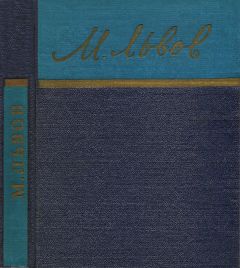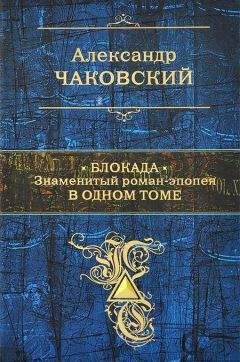Александр Морозов - Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765
В Академии наук усиливалась работа по изучению русского языка. В «Российском собрании» участвовали простые и незнатные люди из академических низов, а среди них и однокашники Ломоносова из Спасских школ. Вопросы, горячо обсуждавшиеся в этой среде, привлекали к себе Ломоносова. Теоретическая работа Тредиаковского перевернула все его представления о стихе, почерпнутые в Славяно-греко-латинской академии из разных пиитик. Он почувствовал необходимость хорошенько подумать о принципах русской поэзии. И книга Тредиаковского оказалась среди скудных пожитков, увезенных Ломоносовым за границу.
18 августа 1736 года каждому отъезжающему была вручена инструкция. Студенты обязывались «во всех местах, во время своего пребывания, оказывать пристойные нравы и поступки», стараться о продолжении наук, прилежно изучать языки, не пренебрегать практикой и каждые полгода присылать в Академию наук отчет о своих успехах.
В сентябре 1736 года Ломоносов с товарищами погрузился на корабль. Сильный шторм долго не позволял выйти в море. Наконец 23 сентября корабль выбрался из Кронштадта и только 16 октября после бурного и опасного перехода прибыл в Травемюнде. Отсюда русские студенты добрались до Марбурга 3 ноября 1736 года.
Ломоносов уезжал на чужбину с высоко поднятой головой. Ему было двадцать пять лет от роду. Это был зрелый человек, хорошо знавший и любивший свою страну, видевший ее необъятные просторы, глубоко познавший жизнь своего народа.
Глава седьмая. На чужбине
«Ведь он русский, стало быть ему всё под силу».
В. Г. Белинский о Ломоносове за границейИз ослепительного Петербурга Ломоносов попал в европейское захолустье. В Петербурге всё было непомерно, поражало своим размахом, огромностью начинания. Величественные здания высились у широких вод Невы. Вдоль прямой, как стрела, «Невской першпективы» раскинулись затейливые дворцы, окруженные молодыми, еще не дающими тени садами. Сверкали позолотой нарядные, недавно отстроенные церкви.
В Марбурге — узкие, горбатые улицы с маленькими, отгороженными друг от друга глухими домами. Красные черепичные крыши выделялись над одряхлевшими садами. Над городом нависли старый замок и сумрачная готическая церковь святой Елизаветы. В упраздненном реформацией католическом монастыре расположился открытый в 1527 году университет. Это был первый германский университет, основанный без всякого участия или соизволения папы. Но о старых временах живо напоминал «ручей еретиков», куда бросали пепел сожженных на кострах инквизиции вольнодумцев.
Ломоносов попал в невеселую страну. После опустошительной Тридцатилетней войны и Вестфальского мира (1648) Германия представляла собой множество мелких государств, земель, королевств, курфюршеств, герцогств, княжеств, вольных городов — «по числу дней в году», как говорили тогда. На самом деле их было гораздо больше. Одних суверенных имперско-рыцарских владений насчитывалось около полутора тысяч. Некоторые можно было пройти пешком за полдня. Подобные самостоятельные «государства», состоящие из захолустного городка и двух-трех сёл, устанавливали свои законы, ставили шлагбаумы, вводили особые налоги, имели свои суды, правительственную канцелярию, консисторию, дворцовое, лесное, полицейское и всякие иные управления.
Везде и всюду строчили перьями чиновники неприступного вида, в тяжелых напудренных париках, строго и придирчиво регламентируя жизнь подданных и осуществляя над ними самую мелочную и назойливую опеку. В одном из указов Баденского княжества так и говорилось: «Наша княжеская дворцовая палата является естественной опекуншей наших подданных. Ей надлежит удерживать последних от заблуждений, направлять их на истинный путь, поучать их, хотя бы против их воли, как им устраивать свое домоводство, как обрабатывать свои поля и более экономным ведением хозяйства облегчить себе добывание средств для несения государственных повинностей».
Даже в таком большом государстве, как Бавария, запрещали выгонять гусей на пастбища из опасения, что «выпавшие перья могут повредить проглотившему их скоту». А прусский король Фридрих Вильгельм I обнародовал указ, что каждый, у кого только будет обнаружен хлопок на колпаке или халате, будет три дня носить ошейник или поплатится 100 талерами штрафа. Этим способом он хотел оказать покровительство отечественному овцеводству!
В Германии свирепствовало казенное «Просвещение». Маленькие владетельные князья наспех предписывали подданным заводить подстриженные сады, сажать картофель, прививать оспу по старому способу, именуемому «вариолизацией». Они изо всех сил строили собственные Версали и заводили различные пышности, не соответствующие их бюджету. Воздвигались дворцы, строились казармы и караульни, разбивались парки с уединенными охотничьими домиками; согнанные на работы крестьяне рыли на горах искусственные пруды, проводили фонтаны, складывали причудливые гроты и другие бессмысленные сооружения.
«Почти невероятно, — писал об этом времени Фридрих Энгельс, — какие акты жестокости и произвола совершали эти надменные князья по отношению к своим подданным. Эти князья, проводившие время только в наслаждениях и дебоше, разрешали всякий произвол своим министрам и правительственным чиновникам, которые могли, таким образом, топтать ногами несчастный народ, не боясь наказания, при одном только условии наполнения казны своих господ». [145]
Характеризуя общее положение Германии на протяжении всего XVIII века, Ф. Энгельс указывает на застой в промышленности и торговле, политическое бесправие населения, разложение правящей феодальной верхушки и трусливую покорность немецкой буржуазии: «Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровожадного правительства и плохого состояния торговли».[146]
Политическая раздробленность Германии и расстановка классовых сил были исключительно неблагоприятны для возникновения широкого освободительного движения. Об этом отчетливо говорит Энгельс: «Дворянство, которое не было независимо, но находилось под властью какого-нибудь короля, епископа или князя, обыкновенно относилось к народу с большим пренебрежением, чем к собакам, и выжимало возможно больше денег из труда своих крепостных, ибо рабство было тогда обычным делом в Германии. Точно так же не было никаких признаков свободы в так называемых вольных имперских городах: здесь бургомистр или сам выбравший себя сенат, — должности, которые с течением веков сделались такими же наследственными, как императорская корона, — проявляли гораздо большую тиранию в своем управлении. Ничто не может сравниться с гнусным поведением этой мелкобуржуазной аристократии городов».[147]