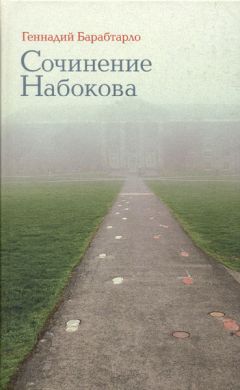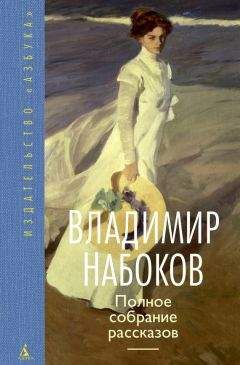Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Но особенно сильно поражает в этой повести другое совсем обстоятельство ее внутреннего строя, а именно то, что тема кратких, пронзительных, судорожных встреч двух странных любовников, невзирая на отмеченную выше личную ноту, не главная здесь, в художественном смысле слова. То же можно сказать и об автомобильной смерти Нины, объявленной заранее посредством периодических напоминаний о приближении к городу разъезжего цирка, огромный фургон которого должен столкнуться с Нининым желтым Икаром, покидающим Фиальту. Эта смерть происходит за сценой, т. е. буквально за городом, за его пределами, и стало быть, за границею повести, главная тема которой и есть этот город, сама Фиальта, слепленная из Фьюме и Ялты, и не просто Фиальта, но Фиальта весной. И название, и начало («Весна в Фиальте облачна и скучна») выводят эту тему на обозрение и любование, и на каждом шагу повествование бросает свой весьма простой, пунктирный сюжет, чтобы предаться восторженным, бурным и изумительно ярким описаниям как самомалейших, так и панорамных подробностей этого именно времени года в этом именно месте. Сонная, млечная, влажная и свежая Фиальта, эта как бы итальянским курсивом набранная Ялта с ее мучительно-тихими чеховскими ассоциациями[139], целиком выдумана и в то же время целиком узнаваема. Кто из нас не видел, или не воображает что видел, губки, «умирающие от жажды» в окне колониальной лавки на морском курорте, или не входил в эту лавку сквозь «струящуюся» завесу бисером низанных нитей в проеме дверей, или не замечал «компании комаров, занимавшихся штопанием воздуха над мимозой», — но Набоков уже побывал в этих местах прежде нас, и ловко поймал эти образы, расправляя их и описывая, и сила действия его художества зависит от нашего усилия усвоить и присвоить себе образ, то есть ввести его в инвентарь и обиход собственной нашей памяти. Эти его образы до того наглядны, что нередко присвоение происходит и без видимого усилия, словно бы они и вправду были пойманы и описаны нами и принадлежали нашему опыту, а не нашему освоенному и зараженному искусством Набокова воображению.
Интересно, что в русском оригинале второй абзац повести начинается так: «Раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая всё…», а засим следует список чудесных подробностей. В английском переводе Набоков растворяет восприятие гораздо шире, и вместо раскрытого глаза у него стоит: «…я оказался на одной из крутых улочек Фиальты, и все пять моих чувств были широко распахнуты». И хотя здесь все чувства повествователя жадно вбирают «всё», все-таки именно это раскрытое, немигающее око, пристально, с любовным вниманием разглядывающее мир вещей и положений, делает «Весну в Фиальте» столь легко внушаемой и воображению, и памяти. И не то чтобы это всё впитывающее око у входа в повесть было каким-то особенным, специально для этой оказии изобретенным приемом; Набоков и раньше его употреблял, и позже, от «Соглядатая» до «Сестер Вэйн» («…я только еще пуще разохотился искать игру света и тени в других местах, и вот бродил в состоянии оголенного ощущения всего на свете, что, казалось, обратило всё моё существо в одно большое око, вращающееся в глазнице мира») и даже до «Сквозняка из прошлого», где это глазное яблоко вращается в глазнице безплотного мира, из которого оно взирает на нас[140].
Обратите внимание на то курьёзное обстоятельство, что «автор» повести, столь мастерски написанной, сам по-видимому и даже подчеркнуто не писатель, а просто человек прекрасно образованный, интеллигентный, который в эмиграции принужден служить в кинематографической как будто фирме, но который «никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке <…> будь я литератором, лишь сердцу позволял бы иметь воображение» и проч. в этом духе. Таким образом, повествователь, своею повестью являющий высшее мастерство художественного сочинения, объявляет изнутри этой искусно плетомой им повести, что он отнюдь не писатель (в смысле сочинительства), вымыслов не признает и художества этого не одобряет. Этот хорошо вообще известный технический парадокс навязан, конечно, самим образом повествования от первого лица, крайне стеснительного во всех отношениях. Например в «Подвиге», герой которого тоже одаренный не-писатель, трудность легко устраняется благодаря объективному повествованию (от третьего лица), которым написаны почти все русские романы Набокова (тогда как почти все английские, напротив, изложены субъективно). В «Весне» он в одном месте пытается как будто намекнуть, что, как бы там ни было, В. все- таки имеет привычки писателя. Вспоминая прошлые посещения Нины, он замечает, что когда она однажды позвонила в дверь его квартиры, он писал «лежа в постели», и потом одной фразой дает нам понять, что было вслед за тем: «…и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком через много месяцев явился симпатичный немец». При обработке перевода Набоков, должно быть, увидел здесь явное противоречие с нарочным утверждением о «не-писательстве», чего ма- ло-мальски внимательный читатель не мог бы не заметить, — ведь не конторские же отчеты он писал лежа в постели, а если бы письма, то не сказал бы наверное, что никогда не дописал начатого — и начисто изъял всякое упоминание о писании в этом эпизоде; вместо того В. просто указывает, по уходе Нины, на неподобранную с полу шпильку.
Другой, и на сей раз необычный, тематический парадокс повести, о котором говорилось вскользь выше, состоит в том, что повторения ее романтической и трагической темы подчеркивают, выделяют и раскрашивают повторения другой, главной темы — «весны в Фиальте» — а не наоборот, как это обыкновенно бывает в изящной словесности. Это именно Нина — неуловимая и вместе с тем доступная, великодушная и вместе равнодушная, ветреная и щемящая — походит на стеклянистую на просвет Фиальту и напоминает о ней при каждом повороте пробега этих двух пульсирующих, параллельных тем — а не наоборот, как можно было бы ожидать. Вот на выбор прекрасный пример этой кажущейся странности:
Сепор пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой.
Мало того, что худенький локоть Нины служит здесь простой инстанцией линейного сопоставления со средою и «сущностью» Фиальты как главного предмета повести, но он даже и не единственная такая инстанция: серебряной обвертке дается не меньший вес в этом любовном воспевании Фиальты. Если и подразумевается здесь, что и Нинина сущность тоже влажная, серая и оранжерейная, то это обстоятельство слишком тонко для слов и лучше оставить его не изъясненным прямо, но намекать на него в разных укромных углах повести. Кроме того, читатель должен заметить, что серебряная бумажка здесь недаром брошена, но указывает на Фердинанда, лошадино- образного мужа Нины, который в предыдущем абзаце посасывает длинный леденец (о леденце «лунного блеска» между прочим сказано, что это была «специальность Фиальты»), Итак, обе эти тонкие подробности окольным путем приводят нас назад, к началу аналогии.