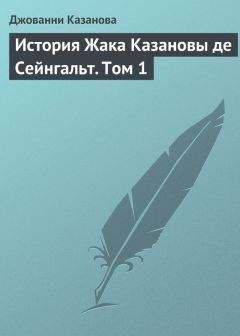Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 6
Наш обед не был печальным, но и не был, тем более, оживлен радостью. В момент расставания я попросил мою бывшую бонну вернуть мне кольцо, которое я ей подарил, за сотню луи, поскольку мы расстались по взаимному согласию; она приняла деньги с печальным видом.
— Я бы не брала их, — сказала она, — так как не нуждаюсь в деньгах.
— В этом случае, — сказал я, — я возвращаю вам его, но обещайте никогда не продавать его, и сохраните сотню луи как слабую компенсацию за услуги, которые вы мне оказали.
Она отдала мне свое золотое кольцо от своего первого брака и покинула меня, не в силах сдержать слезы. Осушив свои, я сказал Лебелю:
— Вы получаете во владение сокровище, которому я не могу в полной мере воздать должное. Всю его цену вы вскоре узнаете. Она полюбит вас одного, она будет заботиться о вашем хозяйстве, она не будет иметь от вас никаких секретов, она порадует вас своим умом и легко рассеет малейшую тень дурного настроения, которое вас вдруг посетит.
Когда я вошел вместе с ним в комнату матери, чтобы сказать последнее «прости», она попросила меня отложить свой отъезд и поужинать еще раз вместе с ней, но я ответил, что лошади уже запряжены и стоят у моих дверей, эта отсрочка вызовет ненужные переживания, но я обещаю ожидать ее, вместе с супругом и матерью, в гостинице в двух лье отсюда, по дороге на Женеву, где мы сможем оставаться, сколько захотим, и Лебель нашел, что это вполне подходит. К моему возвращению в гостиницу все было готово. Я выехал и остановился в обусловленном месте, где сразу заказал ужин на четверых. Я увидел их прибывшими час спустя. Меня удивил свободный и веселый вид новобрачной и особенно непринужденность, с которой она открыла свои объятия, входя в мои. Она меня привела в замешательство; в ней было больше ума, чем во мне. Я нашел в себе, однако силы сдержать свое настроение; мне казалось невозможным, чтобы она меня любила и при этом столь легко можно было перескочить столь внезапно от любви к простой дружбе; несмотря на это, я решил ее имитировать и не отказался от демонстраций, которые позволительны дружбе и которые свободны от проявлений чувств, преступающих ее пределы.
Во время ужина я увидел Лебеля скорее восхищенным тем, что он стал обладателем такой женщины, чем той радостью, которую он получил, удовлетворив свою страсть, которую он испытывал по отношению к ней. Я не мог ревновать к мужчине, настроенному таким образом. Я также видел, что оживление моей бонны происходило только от желания сообщить мне уверенность, что ее будущее таково, что нечего лучше и желать. Она действительно должна была быть счастлива, достигнув состояния стабильного и солидного, защищенного от капризов фортуны.
Эти размышления к концу ужина, который продлился два часа, привели мое настроение к такому же, как у моей покойной бонны. Я смотрел на нее со снисхождением, как на сокровище, которое мне принадлежало и, послужив моему счастью, перешло к другому, к моему полнейшему удовлетворению. Мне казалось, что моя бонна получила воздаяние, которого заслуживала, подобно тому, как великодушный мусульманин дает свободу любимому слуге в награду за его верность. Я смотрел на нее, я смеялся ее остротам, и вспоминал о тех удовольствиях, которые действительно пережил вместе с ней, без всякой горечи и без всякого сожаления, что лишен права их возобновить. Я даже почувствовал некую досаду, когда, бросив взгляд на Лебеля, подумал, что, пожалуй, он не сможет меня заменить. Она, угадав мою мысль, сказала мне глазами, что не беспокоится об этом.
После ужина Лебель сказал, что непременно должен вернуться в Лозанну, чтобы быть послезавтра в Золотурне, я его обнял, высказав пожелание, чтобы наша дружба продолжалась до смерти. Пока он пошел садиться в экипаж вместе с матерью, моя бонна, спускаясь по лестнице вместе со мной, сказала мне со своей обычной искренностью, что она не будет счастлива, пока рана окончательно не зарубцуется.
— Лебель, — сказала она, — заслуживает лишь моего уважения и моей дружбы, но это не значит, что я целиком принадлежу ему. Будь уверен, что я люблю только тебя, и что ты единственный, кто дал мне понять силу чувств и невозможность им сопротивляться, когда ничто не мешает действовать. Когда мы снова увидимся, как ты позволил мне надеяться, мы окажемся в состоянии быть истинными друзьями и будем рады последовать той судьбе, которая нас ожидает; что касается тебя, я уверена, что в скором времени новый объект, более или менее достойный занять мое место, рассеет твою грусть. Я не знаю, беременна ли я, но если это так, ты будешь доволен теми заботами, что я окажу твоему ребенку, которого ты получишь из моих рук, когда захочешь. Вчера мы предприняли договоренность на этот счет, которая не оставит в нас сомнений, если я окажусь беременна. Мы договорились, что поженимся, как только окажемся в Золотурне, но воспользуемся нашим браком не ранее чем через два месяца; таким образом, мы будем уверены, что мой ребенок принадлежит тебе, если я рожу раньше апреля; и мы охотно сделаем так, что все будут считать, что ребенок будет легальным плодом нашего брака. Это он стал автором этого мудрого проекта, источника мира в доме, разработанного, чтобы изгнать из души моего мужа всякую тень сомнения в этом слишком неясном вопросе влияния крови, о котором он думает, однако, не больше меня; но мой муж будет любить наше дитя так, как если бы он был его отцом, и если ты мне напишешь, я сообщу тебе в своем ответе новости о моей беременности и о нашей жизни. Если я буду иметь счастье подарить тебе ребенка, сына или дочь, это будет для меня сувенир, гораздо более ценный, чем твое кольцо. Но мы плачем, а Лебель на нас смотрит и смеется.
Я смог ответить ей, только сжав в своих объятиях, и я передал ее в объятия ее мужа уже в экипаже, где он сказал мне, что наше долгое прощание доставило ему большое удовольствие. Они уехали, и служанки, посланные провожать их со свечами в руках, были этому очень рады. Я отправился спать.
Наутро, при моем пробуждении, пастор церкви в Женеве спросил у меня, не буду ли я добр предоставить ему место в моей коляске, и я согласился. Нам оставалось проехать только десять лье, но, желая что-то съесть в полдень, я предоставил ему возможность отдать распоряжения.
Этот человек, красноречивый и образованный теолог, развлекал меня весьма до самой Женевы той легкостью, с которой он отвечал на все вопросы, в том числе и самые щекотливые, которые я мог задавать ему из области религии. Для него не было тайн, все находило разумное объяснение; я не встречал священника, столь удобно обращавшегося с христианством, как этот славный человек, нрав которого, как я узнал в Женеве, был очень чист; однако я узнал также, что его представления о христианстве не принадлежат, собственно, ему, его доктрина относилась ко всей его Церкви. Я желал доказать ему, что он кальвинист только по имени, потому что не считает Иисуса Христа единосущным с Богом Отцом, и он ответил, что Кальвин никогда не воспринимается непогрешимым, как наш папа; я ответил ему, что мы воспринимаем папу непогрешимым, только когда он вещает ex cathedra , и, процитировав евангелие, заставил его замолчать. Я заставил его краснеть, когда высказал упрек, что Кальвин объявил папу Антихристом Апокалипсиса. Он ответил мне, что невозможно разрушить это ошибочное убеждение, находясь в Женеве, по крайней мере пока правительство не распорядится вычеркнуть церковное предписание, которое читал весь народ, в котором глава римской церкви объявлен таковым. Он сказал мне, что народ невежествен и глуп повсюду, но что у него есть племянница, которая в свои двадцать лет не думает, как народ.