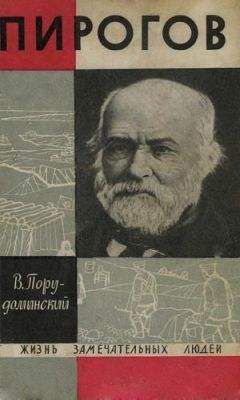Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача
Если все это так, то крепкий духом не может не быть и односторонним; и потому он сходится с разрядом односторонних и ограниченных специалистов, которые, в свою очередь, не есть еще евангельский нищий духом.
Другое дело с людьми, не принадлежащими к этим двум разрядам; между ними есть также и верующие, и неверующие, приобревшие глубокие научные знания, и невежды, и неучи. Для таких людей, а имя им легион, неуступчивая, неупругая и несокрушимая последовательность немыслима, и как не различен склад ума большинства людей из этого разряда, все они имеют то общее им свойство, что могут вести у себя и с собою двойную бухгалтерию, как это названо К.Фохтом. Это значит, что личность, принадлежащая к этой категории, может быть в одно и то же время и человеком науки, и человеком веры, — и в вере, и в науке вполне искренним; идеал веры, — собственный или сообщенный, — мирится в такой личности с результатами полученными путем науки; спокойствие, поселяемое в душе верою в идеал хотя бы абсурдный, с научной точки зрения не нарушается несовпадением итогов двойной бухгалтерии. Как не благодарить Бога тому, кто своевременно разузнает в себе эту чудную, примиряющуюся способность души; но нечего роптать, сетовать, сомневаться и насмехаться и тому, кто не понимает или не хочет понять возможности существования этого психического свойства.
И едва ли крайняя последовательность принадлежит к нормальным свойствам человеческого духа. Беда, если ее захочет себе навязать человек не сильный духом или неограниченный: он неминуемо сподличает. Подлец, в моих глазах, пред Богом и пред собою тот, кто, отвергнув все идеалы веры и став в ряды атеизма, в беде изменяет на время свои убеждения, и всего хуже, если делает еще это тайком, а убеждения свои разглашает открыто. А таких господ немало. К ним принадлежал некогда и я сам, пока не познакомился с собою хорошенько. Да, трудно простить себе такую подлость хотя бы и временную, и невольную; в продолжение моей автобиографии и я не утаю от себя ничего, что заслуживает самобичевания, и постараюсь напомнить себе, когда и как я был подлецом пред Богом и пред собою.
Теперь, когда я убедился, что люди моего склада ума не могут и не должны стремиться к достижению крайних пределов последовательности, я сделался искренно верующим, не утратив нисколько моих научных, мыслью и опытом приобретенных убеждений.
Какой же идеал моей веры?
То, что называется верить в Бога, может быть названо только в том случае, когда ум не дошел еще до необходимости признавать Бога исходною точкою, своим nec plus ultra. Мой бедный, не раз блуждающий ум остановился на этом признании; для меня существование Верховного Разума и Верховной Воли сделалось такою же необходимостью, как мое собственное умственное и нравственное существование. Но остановиться на этом требовании ума еще не значило бы для меня быть верующим, — это значило быть деистом; а деизм, по — моему, еще не вера, а доктрина.
Для нравственного моего быта необходим был идеал более человеческий, более близкий ко мне. Входя все глубже и глубже в себя во время разных испытаний жизни, я понял, наконец, почему культурные племена, дошед до известной степени человечности, так нуждаются в идеале Богочеловека. Слабость тела и духа, болезнь, нужда, горе и беды считаются главными рассадниками веры.
Мой знакомый доктор Груби в Париже утверждал даже, что основу всякой религии нужно отыскивать в патологии человека. Гораздо вернее этого известное: wer nicht sein Brod mit Thranen ass (Кто не ел своего хлеба со слезами (нем.)) и проч.
Но как ни сильны эти мотивы, не один, однако же, плач и скрежет зубов приводит нас к утешительному идеалу Богочеловека; и радость, в двух ее видах, увлекает нас невольно к этому же самому идеалу. Когда на душе тишь да гладь, да Божья благодать, или когда душа восторженна и торжествует, она всегда находит в этих двух видах радости причину сближения с другим, и непременно высшим, как будто ей сочувствующим существом, началом, — не знаю с чем — то.
Это сочувствующее всему человеческому и более чем знакомое со всеми нашими слабостями, нуждами, печалями и радостями начало так свойственно нам, что олицетворение его делается неминуемо потребностью нашего духа; олицетворенное делается звеном, соединяющим нас с тем, пред чем останавливается наш ум, как пред непостижимым для него абсолютом.
Верховный Вселенский Разум и Верховная Воля делаются доступнее для нас в лице Богочеловека. Идеал веры в Богочеловека до того кажется мне теперь свойственным человеческой душе, что и применение к нему известного изречения Вольтера я не считал бы таким кощунством, каким оно мне представляется в отношении к Богу. Недаром высшие культурные племена все свое богопочитание основывали на идеале олицетворения не только божества, но и каждого из его свойств.
Олицетворение неминуемо входило в идеалы вер, как политеизма, так и монотеизма. Иегова евреев, боровшийся под видом человека с
Иаковом, был не только Богом, принимавшим участие в делах человеческих вообще, но еще и Богом национальным еврейского народа.
Да и как возможно бы было человеку, раз принявшему существование Бога необходимым, остановиться неподвижно на одном деизме? Это, как я сам испытал на себе, значило бы насиловать себя, оставаться холодным и равнодушным к Тому, Кого наш же ум признал за начало начал; а чтобы не быть к Нему безразличным, чтобы любить или ненавидеть Его, необходимо делается признать в Нем какие — либо нравственные или материальные отношения к себе. И в самых тайниках человеческой души рано или поздно, но неминуемо должен был развиться и, наконец, придти осуществленный идеал Богочеловека.
Воплощение же этого, задолго пред тем уже предчувствованного идеала, высшего и утешительнейшего из идеалов, не могло не внести в сердца людей новые (и едва ли до того испытанные) чувства мирного блаженства и торжественного восторга, так поражающие нас в жизни неофитов и мучеников за веру. Веровать, что среди нас жил человеческою же жизнию наш Спаситель, испытав на Себе муки и радости этой жизни, было таким, еще никогда неиспытанным счастьем, что все проникнутые этою верою не могли не ставить ее выше всех других чувств и способностей души.
Что ум с его разъедающим анализом и сомнением? Разве он успокаивал, подавал надежду, утешал и водворял мир и упование в душе? А вот осуществленный идеал веры — он проник всю душу, не оставив в ней места для сомнений, анализов и, разом овладев ею, вселяет блаженство и восторг.
Вот и я, грешный, хотя и поздно, но убедился, наконец, что мне при складе и емкости моего ума не следовало попадать в колеи крепких духом и односторонних специалистов. Жизнь — матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие неофиты, и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннею верою. И, я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя.