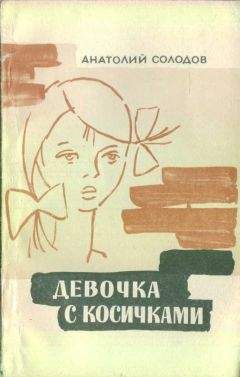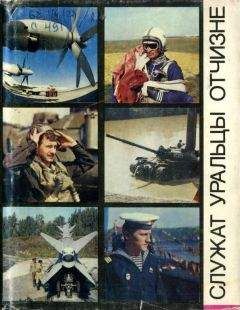Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
— Откуда жена и дети? Ему же было всего девятнадцать лет.
— В деревне рано женятся.
— Я сам деревенский, и, слава богу, двадцать шестой годок пошел жениху, — рассмеялся командир батареи.
— Вы, товарищ командир, не в пример, — сказал Вейс. — Вы военный интеллигент, а интеллигенты поздно женятся. Ну, допустим, что паренек этот не был женат. Но какая-нибудь родня у него должна быть.
— Определенно. Как же без родни? У меня, например, в деревне родичей хоть отбавляй.
— Вот об этом я и говорю. Ох, братцы, какая книга может получиться. Одну главу я уже почти целиком вижу. Представляете, темная осенняя ночь, а Прохор идет через Сиваш. Холодная вода по пояс, и он держит винтовку над головой, бережет ее от воды…
— Это точно, — подтвердил Колесников. — Винтовку нашли рядом с ним. С примкнутым штыком.
— Вот видите, значит, я себе точно все представляю, как в жизни. Я слышу, как вокруг него свистят пули и зловеще воет картечь. Вдруг ослепительная вспышка, удар, и Прохор Иванов падает грудью вперед. Холодные воды Сиваша смыкаются над ним. Но, может, все это слишком красиво, товарищи, может, строже надо?
— Ну, красиво, а что в этом плохого, — сказал командир батареи. — Геройское — это и есть красивое. А как же по-другому? По-моему, так все и было. Все в точности. Когда Павлов нашел Иванова в Сиваше, он так и лежал головой к крымскому берегу.
— Это же прекрасно: головой к крымскому берегу, — проговорил Вейс. — Лицом к врагу. Лицом к победе.
— Все правильно, но слова не те, — сказал Яков.
Я думал, что Вейс начнет спорить с Яковом. Но, к моему удивлению, он согласился.
— Пожалуй, верно, не те слова. А что, братцы, если так повернуть?..
— Что значит, повернуть? — возмутился Колесников. — Ты правду пиши, а не поворачивай ее так и этак. За такое вертунов по рукам бьют.
— А я как раз правду и ищу. За что же меня по рукам? Вы лучше послушайте… Представляете? Темная осенняя ночь. В полки поступил приказ форсировать Сиваш и опрокинуть Врангеля. Командиры и коммунисты идут впереди с возгласами: «Даешь Крым! Смерть черному барону!» Холодная вода по пояс. Вокруг свистят пули и зловеще воет картечь. А Прохору Иванову всего девятнадцать лет. Он совсем мальчик, простодушный, тихий мальчик из глухой лесной деревушки. Прохора только недавно призвали в армию, и сейчас он идет в свой первый бой. Ему страшно. Жутко и страшно.
— Отставить! — сердито произнес командир батареи. — О героях так не пишут.
Но Миша увлекся. Остановить его было уже трудно.
— Это мы сейчас говорим: Прохор Иванов — герой. А он в те минуты думал совсем о другом и вовсе не помышлял о геройстве, — уверенно сказал Вейс.
— Сомневаешься, значит? — спросил Колесников.
— Нет, не сомневаюсь. Я только хочу понять сущность героического.
— Вот это и есть геройство, когда боец, выполняя приказ, беспрекословно идет в огонь и в воду. Без страха, без сомнения идет. И бережет оружие, а не себя. И не дрожит за свою шкуру. И пули врага встречает не задницей, а грудью. И падает лицом к врагу, или, как ты сам говоришь, лицом к победе. А теперь сомневаешься, товарищ Вейс. Не ожидал.
— Я же сказал, товарищ командир, что не сомневаюсь. Прохор Иванов — герой и заслужил бессмертную славу. Но я хочу написать о нем и должен добраться до сути. Вот я думаю…
— Послушай, Миша, уступи мне эту тему, — неожиданно попросил Яков. — Будь другом, уступи.
Все мы рассмеялись кроме оторопевшего Вейса.
— А в самом деле, Вейс, уступи ему, что тебе стоит, — посоветовал Колесников.
— Что это значит, уступи? Не понимаю, — обиженно пробормотал Вейс. — Ну творческое соревнование — это другое дело. Пусть он пишет, и я напишу. А там посмотрим.
— Уступи, уступи, — уже серьезно и настойчиво сказал командир. — Ты, конечно, напишешь, не сомневаюсь. Красиво напишешь. Но только Чапичев вернее напишет. Потому что у него самого душа геройская. Это я чувствую.
— Да что вы, товарищ командир, — смутился Яков. — Какой из меня герой? — Он осторожно притронулся к руке Вейса. — Ты не обижайся, Миша, пиши ты. Напишешь, я первый радоваться буду. А я ведь только попробовать хотел. Взволновало меня все это, так взволновало… Пятнадцать лет лежал Прохор Иванов в своей сивашской могиле, пятнадцать лет молчал, и рот его был забит соленым илом. Так кто-то же должен сказать за него. Сказать о том, как он жил, как сражался, как умер, о том, что бессмертны Ивановы, погибшие за народную правду… Кто-то должен это сказать, обязан. Может, конечно, не я. Скорее всего не я. Боюсь, пороху не хватит. Ведь это такой должен быть стих! Такой…
— А ты сначала попробуй, — посоветовал командир. — Вдруг сможешь. Чего заранее паниковать!..
— Нет, не выйдет, не смогу, — тихо проговорил Яков. — Может, позже когда… Когда силы наберутся. Может, тогда…
В вагоне, возле которого мы сидели, между конями разразилась драка. Бешеный топот копыт по деревянному настилу, свирепый храп, злобное победное ржание и тонкий, почти мышиный писк. Яков вскочил на ноги. В этом вагоне размещалась его орудийная упряжка.
— Сердюк, что там у тебя?
— Опять Рыжий, товарищ командир… Всех коней, сатана, перекусал. Убить его, гада, мало.
— Беда мне с этим Рыжим, — сказал Яков и побежал к вагону.
— Кнутом его хорошенько, — посоветовал вдогонку командир и рассмеялся. — Не послушается Чапичев. Он такой. Еще ни разу коня не ударил. Кнут презирает. Зачем, говорит, мне кнут, если конь меня и так понимает. Иной раз подумаешь: ну и чудак человек. Одним словом, поэт.
— Он не чудак, товарищ командир, — сказал Вейс. — Побольше бы таких чудаков на свете.
— Насчет всего света не знаю. Я пока батареей командую. И потому не возражаю: пусть у меня на батарее будет побольше таких. Не возражаю…
Некоторое время мы слышали голос Якова, то грозный: «Вот я тебе. Назад! Осади, рыжий дьявол!», то ласковый, почти нежный: «Ну, ладно, будет тебе, дурачок, успокойся. Вот так, умница ты моя, вот так!» Вскоре все затихло. Видно, Яков усмирил Рыжего, вернее уговорил.
Где-то далеко в степи послышался протяжный гудок паровоза.
— За нами идет, — сказал Вейс. — Из Юшуни.
Командир поднялся, сложил ладони рупором и крикнул:
— Батарея, стройсь!
ТРЕВОГА, ТРЕВОГА!
Мы пришли к себе в палатку вскоре после отбоя. Обычно мы засиживались в клубе за работой допоздна. Но на этот раз Миша Вейс неожиданно «забастовал».
— Шабаш, — сказал он, лениво потягиваясь. — Работа не волк, в лес не убежит.
Я пытался его уговорить посидеть часок-другой еще: мне нравилось работать в «послеотбойной» ночной тиши. Однако Миша оказался неумолимым.