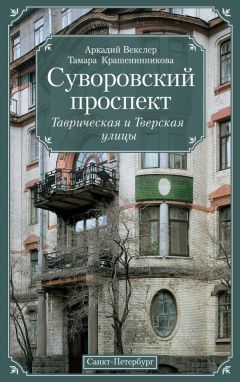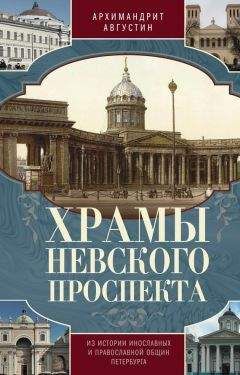Александр Николюкин - Розанов
Мнение Розанова вполне определенно: Соловьев не был гением, но был хорошим работником русской земли, в высшей степени добросовестным в отношении к своим идеям и в своем отношении к родной земле. «Одна из прекраснейших особенностей его характера и биографии и заключается в том, что он чрезвычайно льнул к литературе, даже непосредственнее — к журналистике… Мало было людей, у которых была бы такая постоянная потребность говорить и писать правду. Он был похож на колокол, язык которого невозможно было удержать; поэтичнее и в сторону почитателей это можно выразить так, что он был похож на Эолову арфу»[259]. И вместе с тем среди «живой речи» у него нередко попадаются «куски мертвого содержания», чрезвычайно затрудняющие чтение, делающие его утомительным и скучным.
Вспоминая историю вступления Соловьева в литературу и то, как после публичной лекции 28 марта 1881 года, в которой он призвал императора Александра III помиловать цареубийц, его преподавательская деятельность в императорском Петербургском университете навсегда окончилась, Розанов поясняет: «Примерный, образцовый профессор по всем задаткам, по подготовке в университете и в духовной академии, — он в начале же своей деятельности был признан „невозможным и недопустимым на кафедре“ в каком бы то ни было учебном заведении. Потом пошло дело еще хуже: усилиями Победоносцева были признаны „вредными вообще всякие его сочинения по богословию“[260], т. е. не только сущие, но и будущие; и даны были соответствующие инструкции по тогдашней цензуре, а духовным журналам просто было предписано „не печатать“. Это было вполне отвратительно». Соловьев был вынужден печататься за границей.
В одной из многочисленных своих статей о Соловьеве Розанов приводит воспоминания десятилетнего Владимира Соловьева о беседе его отца, великого историка С. М. Соловьева, с Е. Ф. Коршем и Н. X. Кетчером, которые принесли ему известие о приговоре особого сенатского суда над Чернышевским. Строгий государственник и церковник С. М. Соловьев, относившийся совершенно отрицательно к утопическим идеям Чернышевского, был глубоко оскорблен и возмущен административной правительственной мерой, по которой Чернышевский был отправлен на каторгу и вечное поселение в Сибири.
«Что же это такое, — приводит Розанов слова С. М. Соловьева, — берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры („Современник“ был подцензурным журналом), имел огромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение, такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат года, никому ничего не известно, судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никуда негодным, так как судебная реформа уже решена, и вот, наконец, общество извещается, что этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину»[261]. Подобные методы администрирования издавна были приняты в России, и кому, как не историку Соловьеву, было это знать.
Не обошел Розанов своим вниманием и обострения отношений Соловьева с Л. Н. Толстым. В письме Н. Я. Гроту 9 августа 1891 года Вл. Соловьев писал: «Я особенно теперь недоволен бессмысленною проповедью опрощения, когда от этой простоты сами мужики с голоду мрут». На это Розанов добавляет: «Действительно, проповедовать образованному классу России то „опрощение“, от которого мужики мрут в голодном тифе, — значит забывать всю реальную Россию под гипнозом евангельской проповеди о „невинности и простоте“, о чем-то „голубином“ и „младенческом“»[262].
Розанов упрекал Толстого в несвоевременности его проповеди, «несообразительности, переходящей в черствость». Соловьев, может быть, выступает как «мелкий публицист», но и глаз «мелкого публициста», говорит Розанов, «умеет разобраться лучше, чем глаз мудреца». Правда о жизни народа была для Василия Васильевича выше какого-либо авторитета, даже самого Толстого, 80-летний юбилей которого только что отметила тогда Россия.
Одна из записей «Опавших листьев» начинается словами: «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, нахожу главный источник, по крайней мере, холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в „сословном разделении“» (93–94). Действительно, «сословное разделение» всегда вольно или невольно сказывалось в суждениях Василия Васильевича, в его вкусах и склонностях. Он не был «беспристрастным» человеком.
Еще определеннее «нелюбовь» к Соловьеву раскрывается в другой записи «Опавших листьев»: «Вл. Соловьев написал „Смысл любви“, но ведь „смысл любви“ — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах „Сочинений“ не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. Ни одной строчкой ей не помог» (328). Для автора «Семейного вопроса» — книги Розанова, на которую совершенно не обратили внимания современники, — эта черта жизни и сочинений Соловьева была совершенно неприемлема.
Соловьев был мастером «мгновенных слов» — записочек, шуток, каламбуров и изречений, какие он в течение всей жизни бросал не в корзину, а в карманы друзей своих, просто знакомых и даже едва знакомых, как вспоминает Розанов. Главной особенностью, которой Соловьев привлекал к себе любопытных, была затаенная мысль о «душе мира» — любимое понятие писателя.
Другое почти что крылатое выражение Соловьева Розанов припомнил в связи с полемикой в «Русской мысли» по национальному вопросу: «Влад. Соловьев был больше мастером философских софизмов и софистических словечек, нежели мастером философских понятий. В грубой полемике своей против Н. Я. Данилевского и его книги „Россия и Европа“ и против Н. Н. Страхова и его сочинений — „Борьба с Западом в нашей литературе“ он употребил термин „зоологический национализм“: и хотя это было в 1893–1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках»[263].
Розанов справедливо подметил, что если, беря в руки какое-нибудь сочинение Белинского или Чернышевского, берешь вместе с тем и всю его «душу», то единичное сочинение Соловьева — всегда обращение к публике по данному вопросу, за которым какова вообще его душа — неизвестно. «Душа» же его если и выразилась, то лишь во всей массе его сочинений, да и то не вполне, не окончательно.