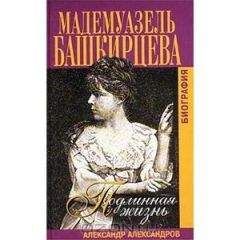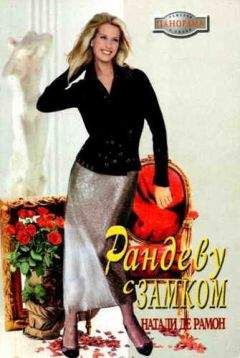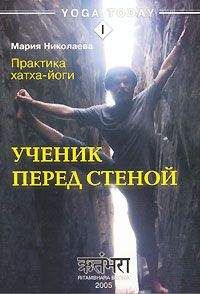Александр Александров - Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой
Чтобы представить себе, как относились в те времена к художнику во Франции, как высок был его статус, стоит привести один анекдот. Однажды Клод Моне решил написать вокзал Сен-Лазар. Он был нищ, неизвестен, но тем не менее оделся в свой лучший костюм и явился к суперинтенданту железных дорог, представившись художником. Чиновник решил, что перед ним один из тех мэтров, что заседают в Академии и выставляются в Салоне, и для него было сделано все: все поезда были остановлены, паровозы загружены углем, чтобы они могли непрестанно дымить и обеспечивать нужные художнику клубы дыма в течение всего дня.
Было в таком отношении к художнику что-то святое. Посещать Салон полагалось не раз, и не два, а много раз. Статьи критиков обсуждались в каждой аристократической и буржуазной семье за обедом. Царил культ Салона, пусть наивный, ребяческий, в какой-то степени глупый, но совершенно искренний. Если покупалась что-то в Салоне, то покупалась картина, которая понравилась, которая искренне пришлась по душе. В двадцатом веке стали покупать имена, пользуясь услугами маршанов.
Что такое был Салон для русского человека, поведал нам прекрасный художник и историк живописи Александр Николаевич Бенуа:
«Парижский Салон»! Сколько слилось в этом слове для сердца каждого россиянина былого времени. И без того он рвался всей душой вот сюда — на берега Сены, на родину всевозможных кумиров литературы, искусства, истории. Но это влечение становилось мучительным, когда наступала весна, когда у нас на берегах Невы (или Москвы-реки, или Волги) только-только появлялись почки, а здесь по газетным сведениям и по рассказам счастливцев, стояло тепло, цвели каштаны, а двери «Дворца индустрии» растворялись настежь, дабы дать многочисленной толпе радость любоваться новонапечатанным художественным творчеством. И как оттуда казалось это зрелище парижской выставки заманчивым! Каким блестящим и славным!..
И спустя дней пять после того, что придет известие о том, что Салон открылся, — в витринах наших петербургских магазинов, у Мелье (в доме Голландской церкви), у Вольфа (в Гостином дворе) и еще кое-где появлялся первый выпуск «Figaro Salon» с текстом Альбера Вольфа и номер «Illustration», посвященный все тому же Салону. А еще через день или два прибывали иллюстрированный каталог и всякие книжонки особого привкуса, вроде «Nu du Salon» («Обнаженная натура в Салоне» — фр.), в которых типично парижские борзописцы и магистры бульварных элегантностей излагали свой «взгляд и нечто» по поводу новых произведений искусства. Словом, открытие Салона было событием мирового значения…»
Аристократия, а впоследствии буржуазия и высшее чиновничество, сами достаточны безграмотные и неискушенные, но желающие приобщиться к великому и святому искусству, для того, чтобы приобретать картины должны были иметь на них некий штамп, печать, удостоверяющую ценность произведения искусства, эту печать и ставил Салон. Репутацию художника создавало мнение жюри, члены которого назначались Академией и которые в свое время сами прошли все эти ступени.
Правда, во времена Башкирцевой жюри стали избирать по спискам. Со следующего, 1881 года, организация Салонов перешла к Ассоциации художников и избирателями жюри стали сами художники, которые до того хотя бы раз уже выставлялись в Салоне. Это избранное жюри, как и прежнее академическое, почти всегда состояло из тех же самых влиятельных персон и всегда отстаивало интересы «своих». Шла открытая торговля голосами: ты проголосуй за моего, я отдам свой голос за твоего. Члены жюри ходили со специальными блокнотами, куда заносили свои заметки, чтобы ничего не запамятовать. При всем при этом, конечно же, происходила и путаница. Словом, конкурс в Салоне был таким же конкурсом, какими они являются и до сих пор, будь то конкурс художественный или кинофестиваль, то есть насквозь продажным, блатным и необъективным, где процветает кумовство, интриги и неискренность, Это в такой же мере относится к тем конкурсам или фестивалям, которые имеют долгую историю и мировой престиж, как и к мелким, где идет та же непримиримая грызня за известность в местном масштабе и за шматок сала.
Тем не менее результаты этих Салонов приносили дивиденды, ими тщеславные и неумные представители искусства чрезвычайно гордились, а мало разумеющая в сих обстоятельствах публика, кушала и кушает до сих пор, все, что им преподносится, как победа или открытие.
Известный собиратель Амбруаз Воллар, оставивший воспоминания о Поле Сезанне, вспоминает такой случай:
«Другое воспоминание, которое осталось у меня от выставки, — это моя ссора с художником З. Так как он с похвалой отозвался о даре цвета Сезанна, я, думая, что доставляю ему удовольствие, предложил обменять один маленький этюд Сезанна на что-либо из его собственных произведений. Он с удивлением взглянул на меня:
— Вы, очевидно, не знаете, что я был представлен в Салоне к третьей медали!
Я сомневаюсь, что, продав бы всю свою мастерскую по ценам, на которых застыли картины премированного художника, он смог теперь предложить эквивалент этой маленькой картины, к которой он некогда отнесся с таким презрением».
В начале 1880 года, после более двух лет занятий у Жулиана, Мария Башкирцева по его совету решается представить свою картину в Салон. Безусловно, имеет значение и то, что ее соперница Бреслау уже выставляла свою картину на предыдущем Салоне 1879 года, где Мария ее отметила для себя, как хорошую, наряду с портретом Виктора Гюго кисти Бонна. В основном же, она оценивает Салон, как жалкую мазню, на фоне которой начинаешь считать себя чем-то, когда еще ничего не достигнуто.
«Быть может, я скажу что-нибудь невозможное, но, знаете, у нас нет великих художников. Существует Бастьен-Лепаж… а другие?.. Это знание, привычка, условность, школа, много условности, огромная условность.
Ничего правдивого, ничего такого, что бы дышало, пело, хватало за душу, бросало в дрожь или заставляло плакать». (Запись от 12 мая 1879 года.)
Но таковы правила игры, других она не знает, — надо выставляться в Салоне и стараться получить медаль. Тем более, что там, в Салоне, есть великий Леон Бонна, есть Жюль Бастьен-Лепаж, сравнительно молодой, но уже очень известный живописец, которого она ценит и даже впоследствии будет называть гением. Эмиль-Огюст Каролюс-Дюран. Всех вышеперечисленных она называет «большими талантами». Есть, наконец, Жан-Луи-Эрнест Мейссонье, член Института, увенчанный всеми степенями ордена Почетного легиона, живописец, картины которого при жизни продавались за такую цену, которую не получал при жизни ни один живописец до него. Цены за его произведения остались легендарными. Например, картина «Наполеон III при Сольферино» была продана за 200 тысяч франков и перепродана вскоре ее первым владельцем за 850 тысяч. Перед самой смертью в 1890 году он продал свою картину «1814» за 850 тысяч франков, теперь она находится в Музее Орсэ в Париже. В это же самое время импрессионисты получали по сто-двести франков за полотно, которое им удавалось продать. Такая небывалая слава Мейссонье была не совсем заслуженна, как было незаслуженно и последовавшее за ней глубокое забвение. Перед крошечными, не больше почтовой открытки, картинками Мейссонье всегда толпились десятки зрителей, рассматривая в лорнеты и даже лупы, как выписана каждая деталь, каждая пуговичка, каждый камушек в украшении, надетом на персонаже. Он славился своей маниакальной дотошностью в изображении деталей. Кстати, Сальватор Дали обожал Мейссонье. И кричал, что будущее — за академизмом.