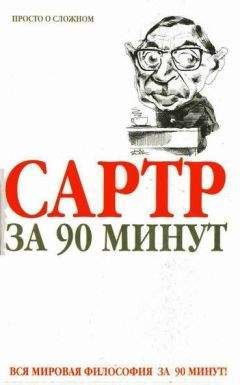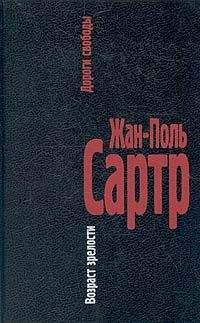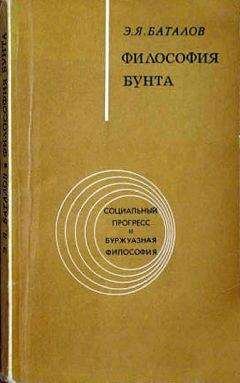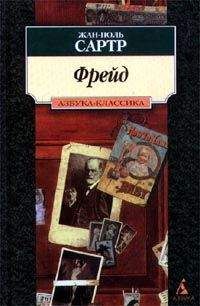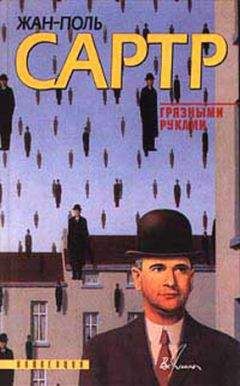Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра
Так обстоит дело с гносеологическим фундаментом исторического знания по Сартру. Гарантией его возможности, как мы видели, он считает коммуникацию (общение) через «понимание», которое составляет необходимый момент жизни каждого человека, что и позволяет «оживить» прошлое, заново воссоздать его.
Теперь более детально рассмотрим собственно методологическую часть трактата. Метод исторического, или антропологического (по Сартру, это синонимы), познания складывается из двух процедур: «аналитико-регрессивной» и «синтетико-прогрессивной». Первая процедура означает сведение данного продукта человеческой деятельности к общим объективным социально-историческим условиям его «производства», каковые могут быть фиксированы с «естественнонаучной точностью», как говорил еще Маркс. Это прежде всего характер общества в данный момент, определяющийся социально-экономической структурой на том или ином этапе ее динамики, класс и семья, которая, собственно говоря, опосредует влияние общества на личность, «интериоризирует» социальное, превращая его из внешней среды во внутреннюю атмосферу, микроклимат, где и вырастает дитя, превращаясь в личность.
Диалектический метод обнаруживает пункт включения человека в класс, к которому он принадлежит, т. е. единичную семью как посредствующее звено между всеобщим классом и индивидуумом: «семья, в конечном счете, формируется в процессе и посредством общего движения Истории и, с другой стороны, переживается (индивидуумом. — М. К.) как абсолют в смутном мире детства»[115]. Это замечание Сартра совершенно справедливо: действительно, становление личности не может быть как следует понято без анализа роли семьи. Кроме того, первоначально (это единственная поправка, которую мы хотели бы сделать к данному высказыванию Сартра) классовая принадлежность личности проявляется в общем укладе семьи и непосредственном влиянии родителей, и ребенок незаметно для себя усваивает определенные элементы своей классовой роли.
Аналитико-регрессивный метод выполняет свою функцию, когда названы, определены и рядоположены исходные условия деятельности личности, но сама-то деятельность этим методом не охватывается. Здесь все находится в покое и рядом друг с другом без органической связи. Эта связь вносится движением самой практики: «Практика есть, в сущности, переход от объективного к объективному посредством интериоризации; проект как субъективное преодоление объективности по направлению к другой объективности, расположенный между объективными условиями среды и объективными структурами поля возможностей, заключает в себе самом Движущееся единство субъективности и объективности, этих кардинальных определений деятельности»[116].
Воспроизведение этого движения и требует «прогрессивно-синтетического» метода. Следуя ему, мы не возвращаемся уже назад, к исходным условиям, мертвым «данностям», а, опираясь на них, постепенно проникаем в самый процесс производства данного продукта (скажем, романа «Мадам Бовари»), проникаемся ритмом поступательного движения человеческого творчества. В то же время это метод синтетический, ибо благодаря ему мы понимаем, как из частей складывается целое, как разрозненные моменты ситуации, вовлекаясь в горнило субъективного проекта, перерабатываются и в результате получается сплав, который мы и называем «продуктом» или «объективацией».
Читатель, знакомый с методологией диалектического материализма, сразу обратит внимание на то, что «прогрессивно-синтетический» метод Сартра напоминает разработанный Марксом на основе материалистического преодоления диалектики Гегеля метод восхождения от абстрактного к конкретному. Маркс блестяще применил этот метод при анализе капиталистического способа производства и обмена в «Капитале», нарисовав структурно-генетическую картину возникновения, функционирования и развития капиталистических производственных отношений.
Но то, что предлагает Сартр, возникло на основе идеалистического, экзистенциально-феноменологического прочтения Гегеля и Маркса, хотя и отражает в искаженной форме некоторые черты реальной диалектики, диалектики субъективного мира человека. Метод Сартра имеет узкобиографическое применение, он предназначен исключительно для воспроизведения индивидуального жизненного пути и при этом сохраняет в себе все недостатки субъективного метода изучения человека, недостатки, о которых мы уже достаточно подробно говорили.
Прослеживание «диалектики души» всегда было прерогативой художественного творчества, и само это знаменитое выражение родилось, когда Чернышевский разбирал повести тогда еще только начинающего писателя Л. Толстого. Но можно ли эту задачу решить в строго научной форме, если не опираться на точно установленные в психологии данные и концепции и на непосредственное научное наблюдение за тем лицом, духовную биографию которого мы собираемся воссоздать? Ясно, что в подавляющем большинстве случаев мы лишены такой возможности и вынуждены опираться на исторические свидетельства и автохарактеристики да в значительной мере на собственное воображение, с помощью которого склеиваем в единое целое пожелтевшие от времени документы, чтобы из них возник живой образ некогда жившего человека.
Так поступал и Сартр, когда вслед за «Критикой диалектического разума» писал огромную биографию Флобера, претендуя на полную научность своего исследования без примеси фантазии. Однако совершенно справедливо интервьюеры Сартра окрестили это произведение «романом-биографией»[117], тем самым указав на то, что «научность» сартровского метода им представляется весьма сомнительной.
Между Марксом, Мао и Маркузе
Теперь настало время рассказать о печальном эпилоге философско-литературной деятельности Сартра. В жизни каждого человека есть, по-видимому, «потолок», только определить его нельзя с такой точностью, с какой конструкторы рассчитывают потолок самолетов. Невозможен бесконечный рост, бесконечное развитие индивида, сама природа положила тут предел. Вопрос только в том, сумеет ли человек, пережив апогей своего развития, высшую точку своих достижений, достаточно долго оставаться на высоком уровне или, наоборот, стремительно покатится вниз. Последнее и случилось с Сартром.
Он словно разучился понимать то, что понимал каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад. Когда просматриваешь циклы его статей «Коммунисты и мир», то, несмотря на неизбежность расхождения во взглядах, соглашаешься с автором в главном и даже испытываешь к нему чувство живой и искренней симпатии за смелость и доброжелательство, с которыми он выступил в защиту социалистических завоеваний в СССР в условиях самой бешеной антикоммунистической истерии. Тогда он понимал неизбежность ошибок и отклонений на неизведанном пути строительства нового общества, необходимость сильного и сплоченного авангарда рабочего класса — коммунистической партии, без которой рабочий класс не смог бы не только достигнуть конечной цели, но вообще приобрести революционное самосознание.