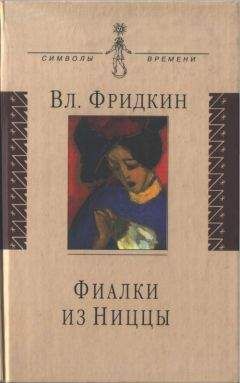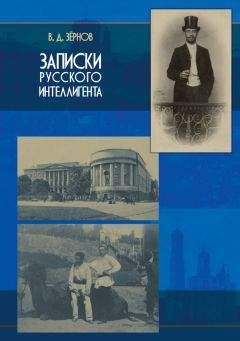Из зарубежной пушкинианы - Фридкин Владимир Михайлович
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.
Хоть французский я не понимаю,
И она по-русски — ни фига,
Как высока грудь ее нагая,
Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы,
Всю мне душу Африка свела:
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.
Дорогие братцы и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится —
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает он меня дотла.
В нем постель, распахнутая настежь,
И жена французского посла.
* * *
Марии стихи очень понравились, но она не поняла двух выражений: «ни фига» и «не слабы». Когда я объяснил их значение, Мария поинтересовалась, знал ли их Пушкин. Я ответил, что выражение «поднести фигу» есть в толковом словаре Даля, а Пушкин знал и более крепкий синоним. Сэр Патрик, конечно, ничего не понял, и, не переводя стихов, я объяснил ему, что мой приятель, известный поэт и океанолог Александр Городницкий, будучи в экспедиции, как-то побывал в Дакаре, увидел где-то на приеме жену французского посла и написал эти шуточные стихи. Стихи приобрели широкую известность, и у поэта были большие неприятности с властями, которые шуток не понимали и сами шутить не любили. «Вы же понимаете, — сказал я, — что означала связь советского человека с женой иностранного дипломата в нашем тоталитарном государстве». А Мария очень кстати вспомнила, что и Пушкина власти преследовали за «Гавриилиаду». «Вот вам и связь времен, — сказал я. — Она у нас не распадалась».
«Позвольте спросить вас, — вступил в разговор сэр Патрик. — Когда именно Ваш друг был в Дакаре?» Я ответил, что он приплыл туда на корабле вместе с моим школьным другом Игорем Белоусовым, тоже океанологом, и, судя по всему, это было году в семидесятом. «Тогда я знаю, о ком идет речь, — сказал сэр Патрик. — Это мадам Легран. Она приехала с мужем в Дакар за несколько лет до нас. Мы очень дружили». Мария изменилась в лице. «Как… это Женевьева Легран? Скажите… сколько лет было вашему другу поэту?» «Я думаю, меньше сорока». «А Женевьеве тогда, если не ошибаюсь, было за пятьдесят… Но, конечно, — спохватилась Мария, — в ней всегда был шарм». Я умоляюще взглянул на нее. «Поймите, это только шутка, плод поэтического воображения…»
На следующий день на вилле начались съемки фильма. Галина Александровна очень волновалась, успеем ли. Фильм сняли за два дня. Мария самоотверженно помогала, и мы ее зачислили в почетные члены съемочной группы. В интервью, которое она дала Российскому телевидению, она сказала, что счастлива хоть чем-то помочь российской культуре в это трудное для нашей страны время. Но на второй день съемок мы ее не увидели. Вышедший к нам сэр Патрик попросил ее извинить и сказал, что она очень устала после приема министра иностранных дел Дугласа Хэрда, который приезжал на виллу накануне вечером. В это время съемки шли в великолепных гостиных нижнего этажа. Съемкам мешали ковры, так как по замыслу режиссера свечи должны были отражаться в блестящих паркетах зала. А слуги, как на грех, куда-то подевались, и сэр Патрик дозваться их не мог. Тогда посол Великобритании, сняв пиджак, сам помог свернуть ковры.
Я и жена спешили на поезд. Пора было покидать Рим, виллу Волконской и возвращаться в Тренто, в университет. Нас подбросил на машине торгпредства шофер Петя, обслуживавший съемочную группу и проработавший в советском посольстве в Риме много лет. По дороге Петя сказал: «Вы знаете, я удивляюсь… Чтобы посол лично ковры с пола убирал… А она сама такая простая… вы сказали, что они дворяне с пятнадцатого века?» — «Нет, с четырнадцатого». — «Вот видите. Я ведь в нашем посольстве всего нагляделся. Конечно, сейчас другие времена, демократия. Но чтобы раньше наш посол ихних киношников в квартиру пустил, ковры снимал… Да на пушечный выстрел не подпустят, руки не подадут. А ведь себя называют товарищами, а этих господами».
И я вспомнил встречу с нашим послом в Японии в конце семидесятых. Им был тогда бывший член Политбюро ЦК КПСС Дмитрий Степанович Полянский. Я приехал на три месяца в Токийский университет, и мне нужно было явиться в посольство к атташе по науке. Во время нашего разговора в комнату заглянул посол, и атташе хотел представить меня ему. Посол, переходя сразу на «ты», спросил: «Ну как, узнал меня? Как я выгляжу?» Я ответил: «В точности как на портретах, которые вывешивали в Москве по праздникам». «Правильно, — сказал посол. — Отвечаешь как дипломат». Потом еще раз бегло взглянул на меня и добавил: «Только смотри у меня, с японочками ни-ни. Отсюда — в двадцать четыре часа! Смотри, какие бабы у нас в посольстве. Одна лучше другой!.. И чего им всем не хватает?» Последний вопрос он, видимо, адресовал атташе. Не знаю уж, чем я вызвал такие подозрения у посла. Только вот спросить, как меня зовут, забыл товарищ Полянский.
«Знаете, Петя, слово „товарищ“ стало у нас рудиментарным, потеряло значение. Недаром сейчас говорят „господа товарищи“».
Через несколько дней из Тренто я послал Марии снятые мной фотографии. На одной из них был запечатлен рабочий момент съемок в старом доме Зинаиды Волконской: окно, распахнутое настежь, и в его проеме жена английского посла.
Вилла в Сорренто
В начале декабря в Сорренто пришла зима. Потянулись дожди. Залив, вспаханный барашками, потускнел, посерел. Везувий расплылся. Утром в саду ветер шумел в соснах, раскачивал верхушки пальм. Горький смотрел в сад из окна. Кусты олеандра за ночь облетели, кисти бугенвиллии, еще недавно усыпанные яркими лиловыми цветами, мокрые и пожухлые, свисали со стены, выходившей на виа дель Капо. Сосны на вилле не были похожи на средиземноморские пинии. Это были почти такие же ветвистые пышные деревья, какие растут в России. Там, в России, сейчас такой же ветер раскачивал их лапы, покрытые снеговой шапкой. Ветер повсюду один и тот же. А вот снега в Сорренто не было никогда.
Горький думал о снеге, о России, о доме. Дома, конечно, не было. Были одни бесконечные переезды, за окном менялся пейзаж. То двугорбый профиль Везувия с дежурным облаком над ним, то рыбацкие лодки у каменистого берега в «Марина пиккола» на Капри, то пушкинская церковь у Никитских ворот. В Италии не было снега, а в России не хватало солнца и становилось страшновато. Недавно он получил письмо из Парижа. Писал Алексей Толстой, приехавший из Москвы в Париж на конференцию. Уговаривал Горького быстрее приехать в Москву и окончательно там обосноваться. «Вы нужны дома, — писал Толстой, — а об остальном беспокоиться не надо. На руках будут носить». А писатель Зайцев из того же Парижа прислал письмо и, напротив, просил не торопиться в гости к Сталину и даже строчки Чуковского вспомнил: «Не хотите ли попасть прямо в пасть?»
С письма Толстого мысли почему-то перенеслись на сына. Максим был добрым, но непутевым. На днях вернулся из Америки. А зачем он туда ездил? И зачем гоняет на своей «альфа-ромео» по Европе? О чем думает, чего ищет? На память пришел приемный сын Толстого Федор, которого все звали Фефа, молодой талантливый нахал, физик, приятель Максима. Вот он знает, чего хочет. Много занимается, будет ученым, а ученые сейчас нужны, не то что наш брат, писатель. Фефа как-то зашел к нему в кабинет и предложил устроить Максима студентом-заочником в Московский автодорожный институт. Дескать, знает и любит автомобиль, пусть совершенствуется, получит профессию. Горький поддержал. Почему бы и нет? Пусть приткнется хоть к чему-нибудь, а это дело полезное. А про себя подумал, вряд ли что из этой затеи получится. Максима он знал. А Фефа горячо взялся за дело. Отправился в приемную комиссию и сдал Максимовы документы. Там посмотрели. «Пешков… Максим Алексеевич… А где же адрес, по какому адресу высылать задания?» Фефа спокойно ответил: «Италия, Сорренто». Члены комиссии раскрыли рты и только тогда поняли, о ком идет речь. Максим был немедленно зачислен. На виллу в Сорренто стали приходить из Москвы конверты из грубой серой бумаги с чернильными штемпелями автодорожного института. Прошел семестр, а Максим и не думал заниматься. В Москве Фефа напомнил ему о заданиях. И тот ответил, неторопливо и окая, подражая отцу: «Понимаешь, эти задачи какие-то особые. Я одну Эйнштейну показал. Он сказал, что решить невозможно».