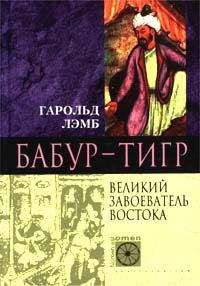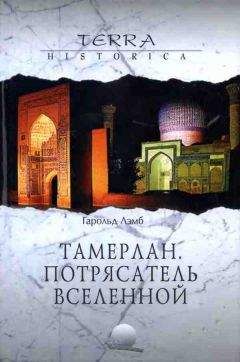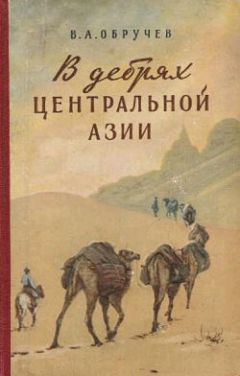Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Я объяснил ему, что, по-моему, лучше с самого начала знать, для какого режиссера ты пишешь сценарий, а еще лучше сразу же начинать эту работу вместе с ним. Поэтому я прошу его не возражать против того, чтобы я связался с Пудовкиным и предложил делать эту работу вместе. Я верю, что Пудовкин сделает картину лучше, чем кто-нибудь другой. И добавил что-то вроде того, что я себе не враг и не настаивал бы на своем, если бы не был в этом уверен.
— Ну, смотрите, — сказал Щербаков, — чтобы потом не пенять на себя. В данном случае я вам приказывать не могу, но предупредить должен.
Он попрощался со мной не столько сердито, сколько огорченно, и я ушел.
«Красная звезда», где я работал, была в это время в прямом подчинении у Щербакова как у начальника Политуправления армии. Я знал от своих товарищей по работе, что Щербаков иногда бывал крут, и даже очень, но мне ни разу не пришлось испытать этого на себе. Наоборот, однажды, в первый год войны, вызвав меня в ЦК, Щербаков в очень трудном для меня вопросе проявил такую глубокую человечность, о которой я помню и сейчас, через двадцать пять лет. Уже после этого мне пришлось еще несколько раз встречаться и подолгу говорить с ним в связи с работой над большой статьей о Московской битве, к первой годовщине ее.
Тем более меня встревожило, что он так и не внял ни одному из моих доводов, когда я говорил о фильме Пудовкина. Я искренне удивлялся, как же так я не мог переубедить этого явно расположенного ко мне человека. И почему он закончил разговор со мной предупреждением: не пеняйте потом на себя?
И лишь потом, после его смерти, после войны, в связи с другим событием в моей писательской жизни, я понял, что Щербаков тогда, в сорок третьем году, оставив за мною право делать будущий фильм о Москве с Пудовкиным, взял на себя немалую по тому времени ответственность.
…После войны М. Н. Кедров поставил на сцене МХАТа инсценировку моих «Дней и ночей». Постановка с успехом шла уже несколько месяцев, как вдруг спектакль был временно снят.
Оказалось, что на нем побывал И. В. Сталин и спектакль ему не понравился: на сцене не хватает размаха, широты, масштабов Сталинградской битвы…
Надо ли говорить, с какой серьезностью мы отнеслись тогда к замечаниям Сталина. Желая спасти спектакль, мы несколько суток сидели над инсценировкой, думая, как же внести в нее требуемые масштабы. Этим требованиям сопротивлялся сам материал «Дней и ночей», история клочка земли, трех домов, горстки людей, через которую было задумано как в капле воды показать целое — всю битву. Как ни бились, так ничего и не придумали.
Спектакль не был восстановлен.
Именно тогда я вспомнил свой разговор с Щербаковым о фильме «Русские люди» в 1943 году. Те же самые требования и даже те же самые слова — широта, размах, масштабы… Очевидно, все это и тогда шло непосредственно от Сталина, но Щербаков не счел нужным или возможным сказать мне об этом.
Ради объективности добавлю: насколько я знаю, и пьесе «Русские люди», и повести «Дни и ночи» премии были присуждены по инициативе Сталина, читавшего и то и другое. Но, очевидно, при чтении у него создалось одно ощущение, а когда он смотрел эти вещи, материализованные на экране или на сцене, у него возникло то требование широты, огромности общих масштабов, которое погубило спектакль МХАТа и определило судьбу пудовкинского фильма.
Да, видимо, тогда, в сорок третьем году, Щербаков, не наложив прямого запрета на мою будущую работу с Пудовкиным над фильмом о Москве, сделал максимум того, что он мог сделать.
Пудовкин вернулся в Москву, и мы встретились, помнится, поздней осенью сорок третьего года. Он уже знал, что фильм его не понравился, и был очень огорчен этим. Не посыпая соли на раны и не пересказывая ему во всех подробностях разговор с Щербаковым, я предложил Пудовкину делать вместе фильм о Москве. Когда он в принципе согласился, я дал ему до нашей следующей встречи свои дневники 1941 года.
Мне казалось, что некоторые эпизоды, рассказанные в дневниках, некоторые детали пригодятся нам при работе над сюжетом сценария. Будущий сценарий мне самому представлялся как сценарий сюжетного фильма, с несколькими героями, с какой-то драматической и любовной коллизией.
Но разговор с Пудовкиным вышел совсем неожиданным.
— Я буду ставить ваши дневники, — сказал он прямо с порога, едва мы начали разговор.
— Как?
— А вот так… Никаких сюжетов, ваши дневники — они и будут сюжетом. Там, где чего-то будет не хватать, придумаем, добавим, но в том же ключе. И чтобы именно военный корреспондент связал между собой всех других людей.
Не буду пытаться восстанавливать наш диалог с Пудовкиным — через двадцать пять лет это невозможно сделать без натяжек. Очевидно, и те слова, что я уже привел, лишь приблизительно соответствуют сказанному им в тот день. Но смысл того, что он говорил, я помню достаточно хорошо. Это было неожиданным для меня. А неожиданное — сильнее запоминается.
Пудовкин говорил, что у него нет желания делать картину, полную условностей, придумывать разные искусственные повороты сюжета, семейные связи и драматические ситуации, что он не хочет ломать голову над тем, как связать между собой в сценарии людей, которых не связывает между собой война и которых можно соединить, только придумывая искусственные в условиях войны встречи. Он говорил, что, во всяком случае, хочет свести эту искусственность к минимуму. Его интересует не ход сюжета, а ход войны, не личные драмы, а драма войны. Его интересует не история чьей-то любви друг к другу, а история сражения за Москву. А так как ему хочется при этом, чтобы в фильме были и люди, сражающиеся на переднем крае, и люди, руководящие сражениями, так как ему нужны и окопы, и Москва, и даже какие-то очень далекие от Москвы места, где люди думают о Москве, — то все это, по его мнению, как раз и можно естественнее всего связать при помощи человека, который сегодня может встречаться с одними, а завтра с другими, сегодня быть здесь, а завтра там, — то есть при помощи военного корреспондента.
Кроме того, он считает, что битва за Москву началась еще в начале войны, далеко от Москвы, и для того, чтобы показать это, он тоже видит достаточно материала в моих дневниках.
Я совершенно не ожидал всего этого, но духовный натиск Пудовкина был таким сильным, он был так убежден в своей абсолютной правоте и так яростно и блестяще доказывал ее, что я почти сразу же согласился. И мы в тот же день сели работать над сценарием.
Работали мы ровно месяц, у меня дома, каждый день с утра до вечера. Сейчас уже не могу вспомнить, кто из нас записывал текст сценария. Мне помнится, что Пудовкин, но, может, я ошибаюсь, может быть, мы делали это и поочередно. Каждый вечер перепечатывали черновик написанного за день на машинке, а на следуют щее утро, прежде чем садиться за дальнейшую работу, перечитывали, поправляли и давали машинистке перепечатать еще раз.