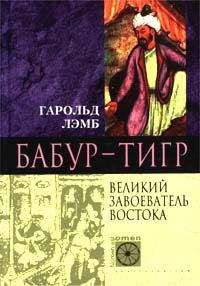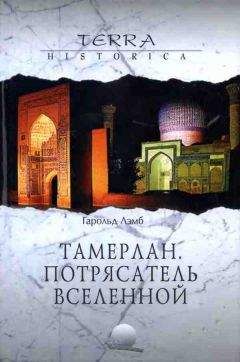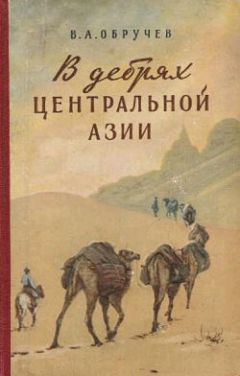Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Потом вдруг, на очередной репетиции, он мужественно изменил рисунок роли и стал репетировать по-другому — проще, мягче, человечнее.
— Или я сыграю военного, не надсаживая себе горла, — задумчиво сказал он Кене после этой репетиции, — или, значит, я вообще не могу сыграть военного и не буду его играть!
Такую фразу от него редко можно было услышать — обычно он считал, что все, за что он берется, у него непременно должно выйти!
И он действительно от репетиции к репетиции стал беспощадно отбрасывать еще оставшиеся в роли натянутые, подчеркнуто военные нотки, которые он задумал вначале. Образ стал получаться очень человечным, трогательным и мужественным тем особым мужеством, которое бывает в людях храбрых, но нисколько не заботящихся о том, чтобы по всякому поводу подчеркивать свою храбрость словами или поведением.
Берсенев играл мягкого, доброго человека, хорошо делавшего на войне свое суровое дело, не загрубевшего и не растерявшего ничего из того, что раньше было свойственно ему — мирному человеку, строившему, а не взрывавшему мосты и дома.
В разгар войны он играл человека, который любит мир, которому, как всему человечеству, больше идет штатское, чем военное.
Он нес через спектакль мысль о мире и о том, что это будет величайшим счастьем для людей, хотя дорога к этому «ведет через войну».
Ту же атмосферу человечности несла через спектакль игравшая военного врача Греч — Серафима Германовна Бирман. Оба они вместе как исполнители как бы повели за собой по этому пути и всех других актеров.
Мне трудно отделить в этом спектакле работу Берсенева как актера от его работы как режиссера. Атмосфера человечности, ставшая сущностью его образа, стала атмосферой всего спектакля. Берсенев всегда говорил мало и точно. Во время этой постановки он как режиссер говорил особенно мало. Часть своей режиссерской работы он делал как исполнитель главной роли сам, своим исполнением вовлекая соприкасавшихся с ним актеров в работу именно в той тональности, которая была задана им как режиссером.
В начале репетиций черточки натянутости, подчеркнутой «военности», о которых я уже говорил, меня сильно смущали. Минутами мне даже самому начинало казаться, что у Берсенева не выйдет эта роль. Но когда он решительно отбросил все это, пошел по другому пути, то в итоге создал образ доброго, усталого, но сильного и бесстрашно думающего над жизнью человека. Как это иногда бывает в театрах, созданный им образ Савельева стал для меня единственно возможным и неотделимым от Берсенева. Я потом не мог смотреть в этой роли других хороших актеров; мне казалось, что они играют не то, хотя вполне возможно, что я был несправедлив к ним.
Когда спектакль был выпущен, о нем писали по-разному: и хорошо, и кисло. Те, кто был настроен кисло, упрекали пьесу и спектакль в утешительстве, хотя мне казалось, что спектакль вовсе не утешительский, а просто-напросто человечный. Намекали на то, что этот спектакль — времянка, что он на злобу дня: отгремит война — и он потеряет свой смысл! Это не оправдалось. Спектакль, поставленный Берсеневым, идет в Театре имени Ленинского комсомола уже шестнадцатый год. Я позволяю себе упомянуть об этом, потому что речь идет не о пьесе, а о спектакле. Ту же пьесу ставили десятки театров, но шестнадцатый год идет именно этот спектакль, поставленный Берсеневым. Значит, им было заложено сюда что-то такое непреходящее, человечное, что трогает сердце людей и через пятнадцать лет после конца войны.
Следующие мои две пьесы — «Под каштанами Праги» и «Русский вопрос» — были поставлены в Театре имени Ленинского комсомола Серафимой Германовной Бирман, но Берсенев в обоих случаях был участником создания этих спектаклей. В первом случае — как не щадивший своего времени верный друг и советчик; во втором — как превосходный, очень острый и саркастический исполнитель роли Макферсона. Эта работа была последней нашей совместной работой с Иваном Николаевичем Берсеневым.
И как руководитель театра, и как режиссер и актер Берсенев был не только даровитой, но и сильной натурой. Он твердо знал, чего он хочет! А это — далеко не всегда встречающееся в театре свойство — всегда было глубоко притягательным для меня.
1960
О Всеволоде Илларионовиче Пудовкине
Я впервые увидел Пудовкина очень давно — в 1932 или 1933 году. Пудовкин ставил тогда на студии «Межрабпомфильм» своего «Дезертира», а мы, молодые ребята, работавшие в механической мастерской студии, бегали в свои обеденные перерывы наверх в павильон смотреть, как снимает Пудовкин.
Он поразил меня тогда так же или почти так же, как, наверное, поражал всех, кто впервые видел его, занятого работой. Поразил неистовой увлеченностью делом и одновременно — полной отрешенностью от всего, что в данный момент к этому делу не имело касательства. Очевидно, он не только не думал о том, как он может выглядеть со стороны во время работы, в запале, но и не способен был представить себе, что художник вообще может думать об этом. Во время съемок он сам был не вне картины, которую снимал, а как бы внутри нее. Он входил внутрь ее пространства — духовного и физического — и существовал там. Он улыбался и сердился, корчился, сгибался, разгибался, вскакивал, чуть не взлетал в воздух вместе с тем чувством, которое владело им в данную секунду там, внутри совершаемой им работы. И в этом было нечто удивительное и пугающе прекрасное, запоминающееся на всю жизнь.
Наверное, я говорю об этом другими словами, чем сказал бы тридцать пять лет назад. Но в основе того, что я говорю сейчас, лежит чувство первой изумленное Пудовкиным, которое у меня сохранилось с юности, и я нисколько не преувеличиваю силу этого чувства.
Следующая памятная для меня встреча с Пудовкиным состоялась через десять лет. Весной 1943 года я получил в редакции «Красной звезды» двухмесячный отпуск, чтобы написать повесть о Сталинграде, и сидел писал ее в Алма-Ате.
Пудовкин как раз в это время закончил там, в Алма-Ате, фильм «Русские люди», в основу которого была положена моя пьеса. К созданию фильма я не имел никакого отношения. Пудовкин сам написал сценарий, и я увидел картину только на просмотре, когда она уже была готова.
Фильм произвел на меня сильное впечатление. Я уже видел к тому времени несколько постановок пьесы в театрах в превосходном актерском исполнении, и, хотя в фильме тоже хорошо играли, поразило меня не это. Меня поразило другое, то, чего не было в театре и что вторглось в фильм вместе с Пудовкиным — режиссером и актером.
Да, да, и актером. Потому что Пудовкин играл в этом фильме одну из главных ролей — роль немецкого генерала. Роль новую, написанную им самим для себя и лишь отчасти, сюжетно, напоминавшую о том персонаже пьесы, от которого оттолкнулся Пудовкин.