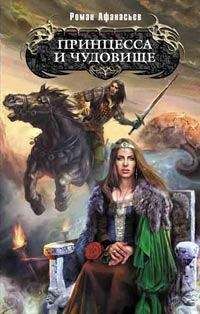Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3
— Как, — сказала она, — весь Париж считает, что это так, она сама советуется со всеми; несмотря на это, я полагаюсь на кабалу.
Она встречает при дворе г-на де Ришелье и говорит ему, что она уверена, что м-м де Попелиньер притворяется; маршал, который был посвящен в тайну, сказал ей, что она ошибается, и она предложила ему пари на сто тысяч франков; она заставила меня дрожать от страха, когда рассказала мне эту историю.
— Принял ли он пари?
— Нет. Это его удивило, а вы знаете, что он должен знать.
Три или четыре дня спустя она сказала мне, что г-н де Ришелье заверил ее, что этот рак был уловкой, чтобы пробудить жалость ее мужа, которого она захотела вернуть, но маршал сказал, что готов заплатить сто тысяч, чтобы узнать, как она прознала про это.
— Если вы хотите их получить, — сказала она, — я все ему расскажу.
— Нет, нет, мадам! Я умоляю вас.
Я боялся ловушки. Я знал голову маршала, авантюра с дырой в стене, с помощью которой этот знаменитый сеньор проник к этой женщине, была известна всему Парижу. Г-н де ла Попелиньер сам предал гласности эту историю, не желая больше видеть свою жену, которой давал двенадцать тысяч франков в год. Графиня сочинила симпатичные куплеты об этом событии, но никто их не слышал вне ее кружка, кроме короля, который ее очень любил, несмотря на то, что она ему время от времени адресовала оскорбительные словечки. Она его спросила однажды, правда ли, что король Пруссии приехал в Париж, и когда король ответил ей, что это сказка, она сказала, что огорчена этим, потому что умирает от желания видеть короля.
Мой брат, который написал в Париже несколько картин, решил представить одну г-ну де Мариньи. Одним прекрасным утром мы отправились вдвоем к этому сеньору, который обитал в Лувре, куда люди искусства приходили составить его двор. Мы очутились в зале, прилегающей к его апартаментам, и, придя туда первыми, ждали его выхода. Картина была там выставлена. Это была батальная сцена в духе Бургиньона.
Вошел мужчина, одетый в черное, увидел картину, задержался на мгновение и сказал про себя:
— Очень плохо.
Минуту спустя приходят двое других, смотрят на картину, смеются и говорят:
— Это работа какого-то ученика.
Я смотрю на моего брата, сидящего рядом и потеющего крупными каплями. Менее чем за четверть часа зал заполнился людьми, и плохое качество картины было сюжетом насмешек всех собравшихся. Мой бедный брат чувствовал себя умирающим и благодарил бога, что никто его не знает. Поскольку состояние его души вызывало у меня смех, я встал и вышел в другую залу. Я сказал брату, последовавшему за мной, что г-н де Мариньи сейчас уйдет, и что если он найдет картину прекрасной, он отомстит тем самым всем этим людям; но весьма разумным образом он не согласился с этим мнением. Быстро, быстро мы спустились и сели в фиакр, велев нашему слуге забрать картину. Так что мы вернулись к себе, и мой брат нанес картине по меньшей мере двадцать ударов шпаги и принял мгновенное решение прекратить свои дела и покинуть Париж, чтобы отправиться учиться дальше и стать мастером в искусстве, которому он был предан. Мы решили уехать в Дрезден.
За два-три дня до того, как покинуть приятные досуги в этом пленительном городе, я обедал в одиночестве в Тюильери у швейцара Цветочных ворот, которого звали Конде. После обеда его жена, довольно красивая, представила мне счет, где я увидел все проставленным вдвойне; я попытался оспорить счет, но она не захотела уступить ни копейки. Я заплатил и, поскольку счет был подписан внизу словами «жена Конде», я взял перо и приписал к слову «Конде» слово «Лябр» (губан) (получилось слово, созвучное «канделябру»). После чего вышел, прогуливаясь по направлению к поворотному мосту . Я уже не думал о жене швейцара, которая меня обсчитала, когда увидел маленького мужчину в надетой набекрень шапочке с огромной бутоньеркой в петлице, подпоясанного шпагой с двухпальцевой гардой, который подступил ко мне с наглым видом и сказал без предисловия, что имеет желание перерезать мне горло.
— По-видимому, подпрыгнув, потому что вы всего лишь обрезок человека, по сравнению со мной, и я обрублю вам уши.
— Проклятие, месье.
— Без всяких деревенских перепалок. Следуйте за мной.
Я пошел большими шагами по направлению к Этуаль, где, не видя никого вокруг, спросил наглеца, чего он от меня хочет и почему напал на меня.
— Я шевалье де Талвис. Вы оскорбили порядочную женщину, которой я покровительствую. Обнажите шпагу.
Говоря так, он достает свою шпагу. Я мгновенно достаю свою и, не дожидаясь, пока он прикроется, раню его в грудь. Он отпрыгивает назад и говорит, что я ранил его как убийца.
— Подумайте и возьмите назад свои слова, иначе я перережу вам горло.
— Ничего подобного, потому что я ранен; но я требую реванша и мы еще обсудим ваш удар.
Я оставил его там; но мой удар был нанесен по правилам, потому что он взял шпагу раньше меня. Если он не прикрылся, это была его ошибка.
В середине августа я покинул вместе с моим братом Париж, где провел два года и где насладился всеми прелестями жизни, без всяких неприятностей, если не считать того, что часто оказывался без денег. Через Метц и Франкфурт мы прибыли в Дрезден в конце месяца и увиделись с нашей матерью, которая оказала нам самый нежный прием, радуясь возможности видеть два первых плода своего замужества, которых не надеялась уже снова увидеть. Мой брат полностью отдался изучению своего искусства, копируя в знаменитой галерее прекрасные батальные картины самых знаменитых авторов, которые там хранились. Он провел там четыре года, пока не счел себя в состоянии снова вернуться в Париж и посрамить критиков. Я расскажу в своем месте, как мы оба вернулись туда почти в одно время, но читатель увидит, как перед тем мной играла фортуна, попеременно то злая, то добрая.
Жизнь, которую я вел в Дрездене вплоть до конца карнавала следующего 1753 года, не содержала ничего экстраординарного. Единственная вещь, которую я сделал, чтобы доставить удовольствие комедиантам, была комико-трагическая пьеса, где я вывел двух персонажей, игравших роль Арлекина. Моя пьеса была пародией на «Братья — враги» Расина. Король много смеялся над комическими несуразицами, которыми была начинена моя комедия, и я получил к началу поста прекрасный подарок от этого щедрого монарха и его министра, подобных которым не видела Европа. Я сказал «Прощай» моей матери, моему брату и моей сестре, ставшей женой Пьера Августа, придворного клавесиниста, который умер два года назад, оставив свою вдову в приличном достатке и окруженной семейством.