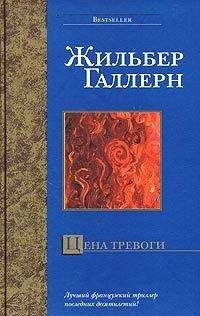Тим Милн - Ким Филби. Неизвестная история супершпиона КГБ. Откровения близкого друга и коллеги по МИ-6
Многие в СИС, которые, как и я, крайне мало знали о деле Кима, придерживались мысли о том, что он все-таки не совершал никаких серьезных преступлений. Хотя мы признавали, что не располагаем никакими надежными фактами, чтобы так судить об этом. Одна важная вещь, про которую мы не знали и о которой я узнал, лишь прочитав его книгу «Моя тайная война», заключалась в том, что на фоне улик, предъявляемых ему на допросах в МИ-5, были две весьма зловещие мелочи. Через два дня после того, как информация о Волкове в 1945 году поступила в Лондон, было отмечено «впечатляющее» увеличение объема телеграфной переписки НКВД между Лондоном и Москвой, сопровождаемое таким же ростом объема корреспонденции между Москвой и Стамбулом. А в сентябре 1949 года, вскоре после того, как Ким узнал, что британцы и американцы расследуют подозрительную утечку из британского посольства в Вашингтоне, случившуюся несколькими годами ранее, наблюдалось аналогичное увеличение потока телеграмм НКВД. Ким не говорит о том, показывали ли ему в МИ-5 какую-нибудь статистику, чтобы подкрепить эти улики, или просто рассчитывали, что он поверит на слово. Если верно последнее, то нельзя исключать и то, что в МИ-5 немного блефовали, преувеличивая реальные данные об объемах переписки НКВД. Но ответ Кима, вероятно, мог лишь усугубить подозрения: когда его спросили, может ли он как-то объяснить такое резкое увеличение числа телеграмм, он просто ответил, что не может. Едва ли это реакция невинного человека. Ким утверждал, что причина, по которой Дональд Маклин был предупрежден об опасности, заключалась в том, что, с одной стороны, он сам заметил слежку, а с другой, что у него забрали определенные категории секретных документов. Но здесь всплыли новые независимые свидетельства, наводящие на мысль о том, что русских, возможно, действительно кто-то информировал. По крайней мере, об эпизоде с Волковым. Можно было бы ожидать, что невинный без особых раздумий заявил бы своим дознавателям, что, если цифры вообще хоть что-нибудь значат, тогда МИ-5 должна искать среди тех, кто до сих пор на свободе.
Думаю, что, если бы факты о движении телеграмм НКВД стали известны в СИС, виновность Кима представлялась бы не такой спорной. Многие также задаются вопросом, до какой степени те, кто информировал Гарольда Макмиллана перед его выступлением в палате общин в ноябре 1955 года, знали об этих свидетельствах, на первый взгляд довольно изобличающих.
То, как Ким вел себя после исчезновения Маклина и Гая Бёрджесса, о чем рассказывается в его книге, тоже не вполне согласуется с событиями. Прежде чем он был вызван на родину из Вашингтона, у Кима состоялось несколько бесед с Джеффри Паттерсоном, местным представителем МИ-5, и Бобби Маккензи, сотрудником охраны посольства. Ким выдвинул предположение о том, как, возможно, протекали события. Маклин, по его словам, понял, что находится под подозрением, и обнаружил слежку. Но это чрезвычайно осложнило бы попытки любых контактов с русскими, без которых шансы на спасение были крайне невелики. Выходом из положения стал случайный приезд Бёрджесса, потому что тот мог сделать необходимые приготовления через своего советского связника. Причина, по которой сбежал и Бёрджесс, по предположению Кима, заключалась в том, что он уже выдохся, работал на пределе сил, и его русские друзья решили, что безопаснее всего будет просто удалить его из центра событий. Будучи в Вашингтоне, Ким придерживался именно такой версии и смог результативно для себя использовать ее у ФБР. Все это, конечно, предполагало, что Бёрджесс является советским агентом. И все же несколько дней спустя, возвратившись в Лондон, Ким заявляет Дику Уайту из МИ-5, что для него почти непостижимо, чтобы кто-то с такой репутацией, как у Бёрджесса, мог стать секретным агентом любого рода, не говоря уже об агенте советской разведки. Если кто-нибудь и упрекнул Филби в непоследовательности, то сам он ничего не пишет об этом.
В беседе со мной — и другими друзьями, насколько мне известно, — Ким никогда не упоминал об испытании, через которое ему приходится проходить. И при этом он не пытался опровергнуть — или даже упомянуть — выдвинутые против него улики. Лишь однажды он коснулся этой темы в нашей беседе. Как-то вечером, после того как Ким поужинал с нами, он завел разговор о Гае Бёрджессе. Жизнь Гая, сказал он, к 1951 году, очевидно, являла собой полную безнадежность, и если он действительно русский шпион, то это напряжение, должно быть, для него совершенно невыносимо. Продолжив, Ким сказал, что долго копался в памяти в поисках любых деталей, которые помогли бы выяснить правду о Гае, и вспомнил одну, наверное, весьма существенную вещь. Во время войны Гай какое-то время усердно добивался расположения одной дамы из известного семейства, которая работала в Блечли. Очевидно, предположил Ким, Гай рассчитывал, что она рано или поздно проговорится ему о своей работе и сообщит какие-нибудь важные подробности. Несколько озадаченный, я спросил, не ждет ли он, что я передам эту информацию службе безопасности. «В общем, да, — слегка удивившись, ответил Ким. — Потому я и упомянул об этом».
Чем больше я думал об этом, тем загадочнее казался мне этот инцидент. Две вещи казались абсолютно очевидными. Во-первых, если Гай действительно добивался общения с той дамой, то этот факт к настоящему времени был бы общеизвестен. Во-вторых, причина, вероятнее всего, связана с ее известным именем, нежели с чем-нибудь еще. Гай всегда был падок на знаменитости; как однажды выразился Денис Гринхилл в статье The Times, «я никогда не слышал, что человек, который бахвалится знакомствами с известными людьми, — выходец из той же среды». Когда я упомянул об этой истории в соответствующем отделе, она не возбудила никакого интереса — судя по всему, по вышеназванным причинам.
За зиму 1952/53 года Ким несколько раз приезжал к нам в нашу маленькую квартиру на Ченсери-Лейн. Работой в коммерческой фирме, связанной с экспортом и импортом, он занимался в Сити, не так уж далеко, и зачастую предпочитал ночевать в квартире своей матери на Дрейтон-Гарденс, а не возвращаться в Рикменсуорт. Мы вместе слушали репортажи о президентских выборах в Америке, и Ким энергично поддерживал Адлая Стивенсона, который соперничал в гонке с Эйзенхауэром. Как-то вечером он настаивал на том, чтобы приготовить нам превосходную паэлью с омаром и при этом взять на себя все — от покупки омара до подачи блюда на стол. А в другой вечер просто напился. Это произошло, когда мы с ним красили стены в ванной. Ким покачнулся, тяжело облокотился о выступ окна и оставил отпечаток окрашенной руки на стене — совсем как следы разных знаменитостей на асфальте у китайского Театра Граумана в Голливуде. Если случайно какой-нибудь более поздний жилец квартиры на первом этаже в доме на Ченсери-Лейн обнаружил на выступе окна в ванной отпечаток окрашенной ладони, то теперь вы знаете, как он там появился…