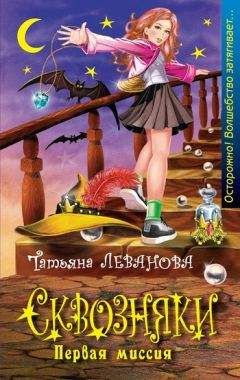Карло Гоцци - Бесполезные мемуары
Однажды утром, Рафаэль Тодескини вошел в мою комнату с искаженным лицом. – «Идите скорей, – говорит он, – наш друг Карло Маффеи скончался вчера прямо в кафе, от апоплексического удара. Вы знаете, он был очень беден, но он упомянул вас в своем завещании». Я не был самым любимым для Маффеи человеком, но я питал к нему особую нежность. Боль от этой зловещей новости терзала мне душу. Я шел за Тодескини, не сознавая, что делаю. Он отводит меня к нотариусу, который сообщает мне волю умершего. Я нашел большую записку, полную восхищения моим характером, и столько этому доказательств, сколько бедный мальчик не дал мне за всю свою жизнь. Когда я увидел последнюю фразу, в которой он написал, что оставляет мне на память и в знак своей дружбы свою золотую табакерку, единственный подарок, который он может мне предложить, я поднял руки в воздух и воскликнул в слезах: – «Ах! Я отдам все золото мира, табакерку, табак и мой нос над ним, чтобы выкупить у беспощадной смерти этого друга, такого нежного и такого доброго!». Нотариус и Тодескини улыбались этому непосредственному выражению моего сожаления, но Смерть, которая не придает особого значения золоту и табакеркам, которая также абсолютно уверена, что получит мой нос рано или поздно, не желала ничего давать взамен. Поэтому я сохранил подарок доброго Маффеи, и это единственное наследие, которое я получил. Миллион не был бы для меня дороже. Очень скоро после этой печальной потери смерть пришла в Падую и неожиданно нанесла удар одному из самых лучших, самых преданных, самых постоянных моих друзей, Иннокентию Массимо. На этот раз, я даже не осмеливаюсь издать восклицание. Я горько плачу, не говоря ни слова. Сын Массимо, очаровательный молодой человек, и его жена Елена Распи, один из самых приветливых и самых душевных людей, которых я когда-либо знал, бросились в мои объятия, ожидая от меня отцовской любви, и я нашел большое утешение в сыновней любви, которую они мне наивно подарили, и которую я до сих пор ощущаю.
Часто мы бываем смущены, говоря между собой о тех, кого уже нет, и в те моменты, полные печали, я повторяю тихо, без горечи, слова, произнесённые таинственным и незнакомым голосом: «Нельзя всегда смеяться», и добавляю: «Но и не нужно всегда смеяться».
Я приблизился, между тем, к пятидесяти и я чувствую, что в этом значительном возрасте уже невозможно заинтересовать читателя. Что я мог бы рассказать об этих годах спокойствия, когда натура засыпает и остывает? Я был довольно забавен в моих любовных страстишках молодого человека. Я был бы ещё более интересен, если бы мое сердце было еще способно зажечься в пятьдесят лет. К счастью, это не так. Пожалуй, я не сказал бы многого по части страстей. Мои произведения не имеют уже того значения, как прежде, это всего лишь сонеты и короткие стихи по случаю, которые занимательны на протяжении дня, и умирают на следующий день после их рождения. Больше нет драматических войн, осад, ловушек или правильных боёв вокруг крепости Парнас! Большие политические слухи идут с севера Европы, и их эхо порождает изумление и беспокойство в Италии. Сейчас эти слухи растут день ото дня. Лев Адриатики закрыл глаза и притворился спящим, не слушая их. Каждый порыв ветра, пересекающий Альпы, приносит какое-нибудь новое слово; слово «Равенство» приходит в грозовых тучах, мы пытаемся его понять, мы толкуем его сотней способов. Я поворачиваю и снова поворачиваю его семь раз в своей голове, и чем больше я об этом думаю, тем больше нахожу причин рассматривать его как философское мечтание.
Благосклонный читатель, если вы справедливы, вы поблагодарите меня за то, что мы проскользнём мимо истории моих последних лет, потому что если я позволю себе впасть во вздорную болтовню, это может привести к написанию ещё целого скучного тома; я воздержусь от этого, потому что я потерял так много родных и друзей, что буду гнать вас, помимо своей воли, на кладбище, и потому, что мой печатник говорит, что у нас больше материала, чем необходимо; впрочем, это означает пренебречь здравым смыслом, которым я руководствовался, предприняв эту работу, поскольку я печатаю эти воспоминания со смирением. Вы найдете в приложении к этой главе пьесу «Любовные снадобья», поставленную в театре Сан-Сальваторе 10 января 1770 года, и вы сможете судить сами об этой личной сатире. (В доступных нам экземплярах Мемуаров нет этой пьесы – Л.М.Ч.)
Семнадцать лет протекло с тех пор, как я писал эти строки. Мы находимся в 18 марта 1797 года, и здесь я добавлю последнее слово. Я чувствую, что энтузиазм охватывает меня. Позвольте мне, пожалуйста, патетическую тираду: «В сладком сне о невозможной демократии, убаюканные обманчивой иллюзией свободы, о мои соотечественники, мы видим появление на наших глазах…» Но печатник перебивает меня и просит убавить жар моего красноречия. Так что я оставляю людям серьёзным и историкам правдивым задачу рассказать о том, что происходит на наших глазах. Терпеливый читатель, пользуюсь тем, что я еще жив, чтобы сказать вам нежное «Прощайте».
Послесловие А.Мюссе к переводу «Мемуаров» на французский язык
Прочитанные сейчас «Воспоминания» были написаны Карло Гоцци в 1780 году. Последние слова, добавленные в 1797, говорят о том, что рукопись перед публикацией оставалась в течение семнадцати лет в руках автора. Достойно сожаления, что чрезмерная щепетильность помешала Гоцци рассказать историю своей старости, потому что интерес к его книге проистекает не только от важности описываемых событий, но и от формы повествования и от блеска ума автора. Было бы любопытно проследить, какие изменения произвели возраст и время в этой поэтической натуре. Сведения о последних годах жизни Карла Гоцци почти отсутствуют. Только из его писем и стихов можно попытаться сделать правдоподобные догадки.
Есть в Мемуарах один пассаж, на котором современники останавливают внимание. Не вполне очевидна добросовестность автора в рассказе об истории бедного Гратарола. Дружба автора с Теодорой Риччи имеет все признаки более нежного чувства. Многие из незаинтересованных свидетелей объясняют в двух словах происхождение и предмет этого комедийного спора: «Гоцци, как говорят, был влюблен в Риччи. Молодой фат его заменил. Он отомстил, выставив на сцене своего соперника смешным». Общее мнение часто в подобных случаях бывает ошибочным, однако редко является совершенно далёким от истины. Поскольку наш поэт вполне не хочет признавать, что испытывал любовные чувства к первой актрисе компании Сакки, можно оказать ему честь, поверив в этом, но тогда его дружба была страстной, ревнивой и требовательной. Возможно, усилия Гоцци склонить эту молодую женщину к добрым чувствам и самоуважению, его желание сделать её честной и достойной того уважения, которым он наделил её заранее в дополнение к добродетели, которой она пока не обладала, его надежды, рухнувшие с прибытием бездарного щеголя, пробудили в нем глубокие чувства, имеющие все признаки ревности.